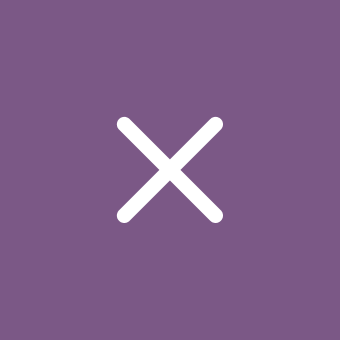Собака и ее хозяйка
Эти люди трогают и обнюхивают хозяина, а затем разговаривают с хозяйкой. Собака ясно видит, что говорят они ей не совсем то, что думают, что в них сидит что-то тяжелое и темное, чего хозяйка не хочет слышать, а им неприятно говорить.
В сад хозяин самостоятельно теперь не выходит, но иногда хозяйка выводит, почти выносит его наружу, сажает в белое пластиковое кресло и, хотя погода еще теплая, укутывает большим клетчатым одеялом. Хозяин начинает ее о чем-то просить, а она возражает, сперва мягко, потом с нетерпением. Но хозяин добивается своего, и она выносит ему кастрюлю с водой, нож и миску нечищеной картошки. Кастрюлю ставит наземь, а миску и нож помещает у него на коленях. И хозяин медленно, с передышками начинает эту картошку чистить.
Собака наблюдает издали. Вид миски всегда волнует ее, и, хотя она доподлинно знает, что сырая картошка ей ни к чему, все же она не прочь была бы понюхать и убедиться. Но для этого надо подойти вплотную к хозяину, чего собака теперь тщательно избегает. Хозяин нередко пытается подозвать собаку к себе, и хозяйка приказывает ей подойти, тогда собака, повиляв для приличия хвостом, уходит в дальний угол сада. Хозяйка кричит на нее и ругает, хозяин поднимает руку, открывает рот, чтобы остановить хозяйку, но рука падает в миску с картошкой, голова свешивается на грудь, и хозяин засыпает с открытым ртом. Тогда хозяйка тихонько забирает миску и кастрюлю и на цыпочках уходит в дом.
Собака знает про своих хозяев много такого, чего они и сами про себя не знают или не хотят знать. Например, то, что делает для хозяина хозяйка, часто раздражает его, хотя он молчит. Хозяйке же вообще не нравится хозяин, какой он теперь, и она иногда хотела бы, чтобы его не было совсем, хотя думает она прямо наоборот.
Собака прекрасно понимает хозяйку. Она знает, что наступило время, когда надо оставить хозяина в покое и ничем больше его не тревожить. Хозяйка, видимо, тоже это знает, и ей, как и собаке, не хочется подходить к хозяину. Не может не знать и сам хозяин, тем не менее оба они ведут себя так, как будто ни о чем не догадываются.
Все это произошло с хозяином внезапно, собака не знает, как и отчего. Он всегда был силен и полон энергии, гораздо сильнее, веселее и энергичнее хозяйки. И вот вдруг перестал катать собаку на машине, перестал уходить из дому, начал двигаться медленно, держась руками повыше живота. А потом совсем исчез на некоторое время, когда же пришел обратно, собака увидела, что вся сила из него вытекла и уже не вернется, что бы ни делала хозяйка, как бы ни старались неприятно пахнущие люди. Поэтому, как понимает это собака, он должен был бы теперь укрыться в каком-нибудь тесном, защищенном и темном месте и тихо там лежать, пока не… Собака не знает что, но знает, что это случится скоро.
Нельзя сказать, что ей жалко хозяина. Происходящее с хозяином вообще мало затрагивало бы ее, если бы не то, что хозяйка совсем перестала играть с собакой и ласкать ее, хотя она теперь тоже редко уходит из дому. И даже пищу дает нерегулярно и сразу помногу. Навалит полную миску, нальет воды, а потом и день, и два совсем не выходит к собаке. Собака подолгу стоит у застекленной двери, которая теперь почти всегда закрыта, и ждет хозяйку. В доме теперь тихо, хозяин больше не ездит на своем стуле на колесиках, и собака никогда его не видит. Но она знает, что он еще здесь, в комнате, которая находится вне поля ее зрения. Хозяйка же часто проходит из той комнаты то в ванную, то в кухню, но на собаку не обращает внимания.
Впрочем, случается иногда, что она выбегает вдруг в сад, бросается к собаке, хватает ее за шею, прижимает ее голову к своей и громко скулит, трясясь всем телом. Собака по себе знает, что означают такие звуки, — хозяйка жалуется, что у нее что-то болит, или ей чего-то сильно не хватает, может быть, еды. Собака не представляет себе, чем бы она могла хозяйке помочь, да и не задается таким вопросом. Если хозяйка скулит недолго, собака терпеливо стоит и пережидает. Если же это затягивается, она невольно начинает хозяйке подпевать и одновременно пытается освободиться. Тогда хозяйка целует собаку и уходит в дом. А собака облизывает соленую мокрую морду и снова принимается ждать.
Но однажды хозяйка вышла в сад, немного погладила собаку и подхватила ее на руки. Она уже очень давно этого не делала, собака с тех пор сильно выросла и потяжелела, поэтому хозяйка, поднимая ее на руки, даже охнула от усилия. А собака немного смутилась и начала было сопротивляться, но хозяйка нежно прижимала ее к себе, и соскучившаяся собака позволила ей. Хозяйка быстро понесла собаку в дом, прямо в ту комнату, которая не видна с террасы.
Едва собака поняла, куда ее несут, она начала вырываться по-настоящему. Но хозяйка крепко держала собаку и внесла-таки ее туда, где в сильно натопленной полутьме и тишине затаилось то, что раньше было хозяином. Внесла и, не выпуская ее из рук, легла на кровать рядом с ним. Пока собаку отделяло от хозяина тело хозяйки, собака боролась, но еще не во всю силу. Но хозяйка, стискивая собаку обеими руками, повернулась так, чтобы прижать ее прямо к груди хозяина. И тогда собака потеряла голову. Укусить хозяина было никак нельзя, и она рванула за плечо хозяйку. Хозяйка закричала и выпустила собаку из рук.
Этот эпизод произошел в один из худших дней. Я просто не знала, что делать, и мне вдруг подумалось, что, если я сумею прижать этот концентрированный сгусток жизненной силы, мою собаку, к обессиленному телу больного, может быть, хоть частица энергии перельется в него. Моя собственная энергия ему уже не помогала.
Но бывали и не такие скверные дни. Он садился в постели, надевал рубаху и брюки, даже брился. И требовал свои записи, пытался что-то планировать по работе.
Планировать.
Хватало его минут на пять. Затем он начинал широко открывать рот, закидывать руки за голову и валился назад на подушки.
Врачи говорили мне разное. Одни говорили бесцеремонно: будь готова. Сделать уже ничего нельзя. Сердце расширилось до такой степени, стенки его так истончились, что насос уже едва работает. Кровь не доходит до конечностей, слабо обновляется в органах. Легкие затоплены. В любой момент… Класть его опять в больницу бессмысленно. Разве что пересадка сердца, но и это вряд ли удастся, да он и не дождется очереди… Но другие, сердобольные, уклончиво толковали, что при тщательном уходе и правильной медикаментации, при спокойном, размеренном образе жизни, без нервов и потрясений… Если больной не простудится, не заразится гриппом, если не разовьется воспаление легких… Если переживет зиму… Весной посидит в саду, на солнышке…
Зиму! Вот так нам жить всю зиму? Всю промозглую, ветреную зиму, когда в четыре пополудни уже темно, в плохо отапливаемом доме и в полном почти одиночестве, потому что друзья и знакомые боятся теперь заходить к нам…
А деньги? На что мы проживем эту зиму? Немногие наши сбережения уже почти ушли. Еще в самом начале болезни он сказал, якобы шутливо: «Придется нам временно поменяться ролями. Теперь ты будешь главным добытчиком, а я займусь хозяйством». И занялся — как мог.
А я старалась работать, но много ли заработаешь переводами, да и времени у меня на работу почти не оставалось. Все, что он делал в порядке «занятий по хозяйству», приходилось теперь тайком доделывать и переделывать — а как хорошо и быстро он все это умел раньше! — и все время что-то готовить, приносить, уносить, подавать лекарства, мыть, переодевать, перестилать, подтапливать печки. А вскоре и оставлять его одного стало страшно. Он перестал спать по ночам, мучился удушьем и непереносимыми кошмарами, от которых и мое присутствие уже не спасало.
Он уже едва мог сам дойти до туалета, но все еще ругал меня за то, что я не даю ему «заниматься хозяйством». Этот человек, который не умел болеть, «отдыхать», наслаждаться ничегонеделанием, вот так должен прожить зиму? А весной? «Посидит в саду на солнышке…» А летом? Все в том же саду, в тенечке… А я буду надевать ему кислородную маску, переставлять ему ноги и перекладывать руки, чтоб не занемели, ему, который еще не так давно расспрашивал меня с любопытством — как это, когда болит голова.
Крепись, говорили мне добросердечные врачи. Готовься, говорили прямодушные. И я крепилась, а потом начала потихоньку готовиться — готовить себя.
Он ужасно мучается.
Это не жизнь ни для кого, а для него особенно.
Ему не только больно, и тяжко, и страшно, но и безмерно унизительно. В нашей совместной жизни много было криков, обид, обвинений. Но унижать друг друга? Этого мы себе не позволяли.
И кончаются деньги. Положим, денег займу — на сколько хватит? Впрочем, надолго и не понадобится.
Вместе с врачами я продлеваю его муки. Не ради него — ради себя. Чтобы потом не терзала совесть.
Мне изнурительно тяжко смотреть на него. Мне тяжко ухаживать за ним и дышать изо дня в день, из ночи в ночь душным, безнадежным, пропитанным лекарствами воздухом страданий.
Все это напрасно — ему не выжить.
И я отпустила его. Держала, держала — и отпустила.
Ничего не переменилось в нашем обиходе, просто я перестала его держать.
Собака лежит в саду под кустом бугенвиллеи и ждет хозяйку.
Обожженные коротким мартовским снегом ветки бугенвиллеи только-только начали покрываться бледными листочками и не дают тени, хотя солнце уже припекает. Под отцветшим миндальным деревом тени больше, но оттуда видна не вся территория, которую собака по-прежнему охраняет. Она охраняет ее, хотя в доме больше никто не живет.
Собака не знает, что в доме никто не живет. Ей об этом не сказали, или, может быть, хозяйка и сказала, а собака не поняла. Она знает лишь, что хозяина теперь нет, нет совсем, а хозяйка в доме не ночует. Первое не трогает собаку, ибо представляется ей в порядке вещей, а второе сильно удручает ее, но само по себе ничего не значит. Собака привыкла к тому, что хозяйка уходит куда-то, там у нее свои, неизвестные собаке дела — может быть, она ищет там нового хозяина. Важно то, что она каждый день приходит к собаке, и кормит ее, и подолгу сидит на террасе, рассказывая ей о своих переживаниях и делах, иногда плачет, а собака лежит у нее на ногах и с наслаждением слушает непонятные звуки.
Беспокоиться собака начинает, лишь когда хозяйка собирается уходить. О том, что хозяйка намерена скоро уйти, собака узнает задолго до того, как та подымается с места. Хозяйке, видимо, неловко перед собакой, поэтому она всячески старается скрыть от собаки момент своего ухода. Она всегда приносит с собой что-нибудь особенно вкусное, но дает это ей не сразу, вместе с обычной едой, а под самый конец, чтобы собака, занятая лакомством, не просила ее остаться. И собака прекрасно знает, зачем ей дали этот вкусный кусок, и все-таки не может удержаться, опускает голову в миску и почти немедленно слышит щелчок запираемой двери. Тогда, с непроглоченным куском в зубах, она мчится в тот конец сада, откуда видно поспешно уходящую хозяйку. Собака не лает и не скулит ей вслед, а просто стоит и смотрит, выронив кусок на землю. Может быть, хозяйка обернется. Тогда она непременно пойдет назад и побудет еще немного. Но хозяйка оборачивалась только первые дни, а теперь уходит быстро, почти убегает. Вот ее уже не видно. Собака подбирает кусок, съедает его и ложится под куст бугенвиллеи. И принимается ждать хозяйку.
Я убегала от моей собаки, изнывая от жалости и стыда. У меня, разумеется, были серьезные причины, достаточное оправдание для моих действий. Я не могла больше жить в этом чудесном доме с садом, где нам втроем, вместе с собакой, было раньше так хорошо. Не могла жить одна в этом большом наемном доме в восточном Иерусалиме. А там, куда я переселилась, собаке жить невозможно, говорила я себе. Она ведь всю жизнь прожила в саду, на свободе (свобода…), она не сможет жить в тесной городской квартире на четвертом этаже и выходить два или три раза в день на поводке, чтобы в грохочущей сутолоке людей и машин торопливо справить свои надобности на раскаленном грязном асфальте. Она там с ума сойдет. Истоскуется. Зачахнет.
Да я ведь и пробовала взять собаку к себе, и убедилась, что это невозможно. Она ни за что не хотела спускаться по лестнице, а когда я, вся взмыленная, сволокла наконец ее вниз, в густую толпу, собака сперва застыла на месте, и я не могла ее сдвинуть, она упиралась всеми четырьмя лапами и хрипела, полузадушенная удавкой. Прохожие натыкались на нее, толкали, ругались, а она лишь ворочала безумными глазами — и ни с места. Потом же вдруг присела и сделала все свое прямо под ноги спешащим людям. Что было дальше, лучше не вспоминать.
К тому же, если я возьму ее к себе, она полностью свяжет мою свободу. Мне тогда ни уйти надолго, ни уехать. Я ведь теперь живу одна. Нет, я не могла позволить собаке жить со мной. Конечно же, я ее не брошу, она моя любимая собака, я буду часто ездить к ней, кормить и ласкать, она и не заметит перемены. Да ведь это и не навсегда, просто я сейчас в тяжелом состоянии, мне нужно время, чтобы прийти в себя и придумать какой-нибудь выход. А пока ей лучше в саду, в привычной обстановке, на воле. Так я себе говорила.
Прошло и лето, и осень, жаркая погода сменилась холодным ветром с короткими угрюмыми дождями, а для собаки ничего не менялось. Она не привыкла к новому положению вещей и по-прежнему все время ждала хозяйку, но уже не надеялась, что та вернется по-настоящему. В доме стал ночевать незнакомый молодой человек, и он давал собаке еду и воду в те дни, когда хозяйка не приходила. Собака ела и пила, но на молодого человека не обращала никакого внимания. И дней таких, когда хозяйка не приходила, становилось все больше. Когда же она приходила, собака теперь не кидалась ей на грудь с радостным визгом, а стояла, опустив голову и вяло покачивая хвостом. Она знала, что хозяйка забежала ненадолго, погладит, поцелует в морду, пошарит по шерсти, нет ли блох и клещей, скажет несколько ласковых слов — и уйдет, кинув на прощанье собаке традиционный вкусный кусок. И собака съедала этот кусок, но уже не прислушивалась к щелканью замка и не бежала провожать хозяйку.
Собака не плакала и не злилась на хозяйку, ей постепенно становилось как-то все равно. Жирные голуби в безлюдном саду сильно обнаглели, загадили все выходившее в сад окно дома, но охотиться собаке хотелось теперь все реже. Сторожить свой сад и дом с прежним рвением она уже не считала нужным. Лишь по ночам, когда молодой человек не приходил ночевать и собаке бывало особенно страшно, она обегала иногда сад и на каждом углу грозно лаяла и рычала. А днем она большую часть времени спала не просыпаясь и не реагируя на шумы, лишь изредка по привычке окидывая взглядом свою территорию.
Но однажды сквозь крепкий дневной сон до собаки донесся давно не слышанный звук — звонили в дверь. Это значило, что там стоит посторонний человек и хочет войти в дом.
Звонок на двери был очень громкий, и звук этот вызвал в спящем мозгу собаки образ хозяина, как он когда-то долго прилаживал этот звонок специально для хозяйки, чтобы она слышала его из сада. Собака продолжала спать, потому что хозяйка никогда не звонила, а остальное ее никак не касалось. Она знала, что молодого человека в доме нет, а звонок все звонил и звонил, и перед закрытыми глазами собаки все маячил призрак хозяина, темный и расплывчатый, и от этого у нее тоскливо тянуло внутри, но и просыпаться ей было жаль, ибо, пока был хозяин, была тут и хозяйка. Все же долго выдерживать это смутное ощущение, не то тягостное, не то радостное, собака не могла. Она дернулась всем телом, пытаясь его стряхнуть, и проснулась.
А тут и звонок замолчал, и собака по привычке поплелась в тот конец сада, откуда видно было приходящих и уходящих людей.
Но человек вовсе не уходил, а перелезал через поросшую колючими кустиками каперсов ограду. Он не видел собаки, но она сразу учуяла его запах. Если бы не этот запах, ничего бы, скорее всего, и не произошло. Она отогнала бы человека угрожающими скачками издали, лаем, рычанием, вздыбившейся шерстью. Ей совсем не хотелось драться, и если бы человек влез, например, в дом, она бы, наверное, и не пыталась его прогнать. Это был уже не ее дом. Но человек посягал на место обитания собаки, и к ней мгновенно вернулся сторожевой инстинкт. К тому же этот запах.
Собака никогда не нападала на людей первая, она только не позволяла прикасаться к себе никому, кроме хозяйки. Но было три категории людей, к которым она питала особую неприязнь и страх, и если кто-то из них оказывался вблизи, она теряла голову и жестоко кусалась. Люди эти были арабы, религиозные евреи и полицейские. И вот сейчас от лезшего в сад человека до нее донесся один из этих запахов.
Собака не зарычала и не залаяла. Молча, без всякого предупреждения, она прямо с места взвилась вперед и вверх и впилась зубами в переброшенную через ограду ногу. Человек страшно закричал и затряс ногой, цепляясь руками за колючие сухие побеги каперсов. Он раскачивал ногой и с размаху бил собаку о каменную ограду. Собака могла бы терпеть долго, все крепче сжимая челюсти и с каждым толчком все глубже вгрызаясь в икру, но в этом не было нужды. Человек достаточно напуган и теперь наверняка уйдет. Она разжала зубы и, отхватив налету лоскут от штанины, легко спружинила на землю.
И человек действительно ушел. Да так быстро, что, когда собака, смахнув лапами налипший на морду кусок ткани, взглянула вверх, там уже никого не было.
Собака для верности полаяла ему вслед и побежала к миске. Раздвинув носом нападавшие туда листья, она напилась воды и легла под давно засохший куст олеандра — спать и ждать хозяйку.
К этому времени я уже несколько опомнилась от потери. И, как это часто бывает после шока, траурной эйфории и последующей апатии, бросилась в усиленную деятельность. Чувство вины перед ушедшим грызло меня не переставая, и мне все казалось, что допустила я это оттого, что в жизни моей не было нужного порядка, твердой линии, правильной установки. Слишком широко я истолковала понятие своей свободы, свободы оказывать себе снисхождение, жить, как получится, без чрезмерных усилий. Ну, врачи сказали — сделать ничего нельзя. А я и поверила. Предпочла поверить? Очень уж тяжело было? Себя пожалела? И отпустила. Да как быстро! Несколько месяцев всего.
И я клялась себе, что такое со мной больше не повторится и для этого необходимо навести порядок в себе и в своей жизни. Что сталось, того не переделаешь, но впредь…
Начать новую жизнь. Бросить курить — главнейший признак душевной разболтанности и потакания себе. Следить за давно запущенной внешностью. Разобрать и упорядочить кучи бумаг, оплатить просроченные счета, ответить на письма. Найти побольше работы и работать регулярно. Восстановить повисшие в воздухе связи, выходить на люди. И при этом все время помнить, что жизнь тех, кого ты любишь, полностью зависит от твоей воли, помнить это всегда, всегда. Очень мало таких у тебя осталось. Держать эту волю всегда в напряжении, не отпускать ни на минуту.
И я лихорадочно хваталась то за одно, то за другое. Переехала на другую квартиру. Подстриглась по-новому и даже завилась, купила новую одежду. Покопалась в бумагах, но без курения не могла сосредоточиться как следует. Подгоняемая жестоким никотиновым голодом, бегала по городу, навещая без звонка старых друзей, чтобы сказать им, что я их люблю. Визиты эти и нежные мои слова друзья принимали с недоумением и неловкостью, однако из почтения к трауру сказать ничего не решались. Меня это не смущало, мне казалось, что этим я хоть как-то искупаю свою вину. Я полна была решимости никого больше не отпускать.
К тому же непрерывное движение облегчало немного мои муки — и душевные, и физические. Трудно сказать, от чего я в то время страдала больше — от недавней потери или от некурения. Вероятно, от второго. Иногда мне казалось — только бы закурить, только бы избавиться от этого ужаса, от этого неутолимого ощущения постоянной нехватки, а с той, с первой, главной нехваткой я постепенно как-нибудь справлюсь. Только бы закурить. Да и не иногда мне так казалось, а все время, каждую минуту. Но я говорила себе: а, опять хочешь пожалеть себя? оказать себе снисхождение? И не закуривала. До поры до времени.
В сад хозяин самостоятельно теперь не выходит, но иногда хозяйка выводит, почти выносит его наружу, сажает в белое пластиковое кресло и, хотя погода еще теплая, укутывает большим клетчатым одеялом. Хозяин начинает ее о чем-то просить, а она возражает, сперва мягко, потом с нетерпением. Но хозяин добивается своего, и она выносит ему кастрюлю с водой, нож и миску нечищеной картошки. Кастрюлю ставит наземь, а миску и нож помещает у него на коленях. И хозяин медленно, с передышками начинает эту картошку чистить.
Собака наблюдает издали. Вид миски всегда волнует ее, и, хотя она доподлинно знает, что сырая картошка ей ни к чему, все же она не прочь была бы понюхать и убедиться. Но для этого надо подойти вплотную к хозяину, чего собака теперь тщательно избегает. Хозяин нередко пытается подозвать собаку к себе, и хозяйка приказывает ей подойти, тогда собака, повиляв для приличия хвостом, уходит в дальний угол сада. Хозяйка кричит на нее и ругает, хозяин поднимает руку, открывает рот, чтобы остановить хозяйку, но рука падает в миску с картошкой, голова свешивается на грудь, и хозяин засыпает с открытым ртом. Тогда хозяйка тихонько забирает миску и кастрюлю и на цыпочках уходит в дом.
Собака знает про своих хозяев много такого, чего они и сами про себя не знают или не хотят знать. Например, то, что делает для хозяина хозяйка, часто раздражает его, хотя он молчит. Хозяйке же вообще не нравится хозяин, какой он теперь, и она иногда хотела бы, чтобы его не было совсем, хотя думает она прямо наоборот.
Собака прекрасно понимает хозяйку. Она знает, что наступило время, когда надо оставить хозяина в покое и ничем больше его не тревожить. Хозяйка, видимо, тоже это знает, и ей, как и собаке, не хочется подходить к хозяину. Не может не знать и сам хозяин, тем не менее оба они ведут себя так, как будто ни о чем не догадываются.
Все это произошло с хозяином внезапно, собака не знает, как и отчего. Он всегда был силен и полон энергии, гораздо сильнее, веселее и энергичнее хозяйки. И вот вдруг перестал катать собаку на машине, перестал уходить из дому, начал двигаться медленно, держась руками повыше живота. А потом совсем исчез на некоторое время, когда же пришел обратно, собака увидела, что вся сила из него вытекла и уже не вернется, что бы ни делала хозяйка, как бы ни старались неприятно пахнущие люди. Поэтому, как понимает это собака, он должен был бы теперь укрыться в каком-нибудь тесном, защищенном и темном месте и тихо там лежать, пока не… Собака не знает что, но знает, что это случится скоро.
Нельзя сказать, что ей жалко хозяина. Происходящее с хозяином вообще мало затрагивало бы ее, если бы не то, что хозяйка совсем перестала играть с собакой и ласкать ее, хотя она теперь тоже редко уходит из дому. И даже пищу дает нерегулярно и сразу помногу. Навалит полную миску, нальет воды, а потом и день, и два совсем не выходит к собаке. Собака подолгу стоит у застекленной двери, которая теперь почти всегда закрыта, и ждет хозяйку. В доме теперь тихо, хозяин больше не ездит на своем стуле на колесиках, и собака никогда его не видит. Но она знает, что он еще здесь, в комнате, которая находится вне поля ее зрения. Хозяйка же часто проходит из той комнаты то в ванную, то в кухню, но на собаку не обращает внимания.
Впрочем, случается иногда, что она выбегает вдруг в сад, бросается к собаке, хватает ее за шею, прижимает ее голову к своей и громко скулит, трясясь всем телом. Собака по себе знает, что означают такие звуки, — хозяйка жалуется, что у нее что-то болит, или ей чего-то сильно не хватает, может быть, еды. Собака не представляет себе, чем бы она могла хозяйке помочь, да и не задается таким вопросом. Если хозяйка скулит недолго, собака терпеливо стоит и пережидает. Если же это затягивается, она невольно начинает хозяйке подпевать и одновременно пытается освободиться. Тогда хозяйка целует собаку и уходит в дом. А собака облизывает соленую мокрую морду и снова принимается ждать.
Но однажды хозяйка вышла в сад, немного погладила собаку и подхватила ее на руки. Она уже очень давно этого не делала, собака с тех пор сильно выросла и потяжелела, поэтому хозяйка, поднимая ее на руки, даже охнула от усилия. А собака немного смутилась и начала было сопротивляться, но хозяйка нежно прижимала ее к себе, и соскучившаяся собака позволила ей. Хозяйка быстро понесла собаку в дом, прямо в ту комнату, которая не видна с террасы.
Едва собака поняла, куда ее несут, она начала вырываться по-настоящему. Но хозяйка крепко держала собаку и внесла-таки ее туда, где в сильно натопленной полутьме и тишине затаилось то, что раньше было хозяином. Внесла и, не выпуская ее из рук, легла на кровать рядом с ним. Пока собаку отделяло от хозяина тело хозяйки, собака боролась, но еще не во всю силу. Но хозяйка, стискивая собаку обеими руками, повернулась так, чтобы прижать ее прямо к груди хозяина. И тогда собака потеряла голову. Укусить хозяина было никак нельзя, и она рванула за плечо хозяйку. Хозяйка закричала и выпустила собаку из рук.
Этот эпизод произошел в один из худших дней. Я просто не знала, что делать, и мне вдруг подумалось, что, если я сумею прижать этот концентрированный сгусток жизненной силы, мою собаку, к обессиленному телу больного, может быть, хоть частица энергии перельется в него. Моя собственная энергия ему уже не помогала.
Но бывали и не такие скверные дни. Он садился в постели, надевал рубаху и брюки, даже брился. И требовал свои записи, пытался что-то планировать по работе.
Планировать.
Хватало его минут на пять. Затем он начинал широко открывать рот, закидывать руки за голову и валился назад на подушки.
Врачи говорили мне разное. Одни говорили бесцеремонно: будь готова. Сделать уже ничего нельзя. Сердце расширилось до такой степени, стенки его так истончились, что насос уже едва работает. Кровь не доходит до конечностей, слабо обновляется в органах. Легкие затоплены. В любой момент… Класть его опять в больницу бессмысленно. Разве что пересадка сердца, но и это вряд ли удастся, да он и не дождется очереди… Но другие, сердобольные, уклончиво толковали, что при тщательном уходе и правильной медикаментации, при спокойном, размеренном образе жизни, без нервов и потрясений… Если больной не простудится, не заразится гриппом, если не разовьется воспаление легких… Если переживет зиму… Весной посидит в саду, на солнышке…
Зиму! Вот так нам жить всю зиму? Всю промозглую, ветреную зиму, когда в четыре пополудни уже темно, в плохо отапливаемом доме и в полном почти одиночестве, потому что друзья и знакомые боятся теперь заходить к нам…
А деньги? На что мы проживем эту зиму? Немногие наши сбережения уже почти ушли. Еще в самом начале болезни он сказал, якобы шутливо: «Придется нам временно поменяться ролями. Теперь ты будешь главным добытчиком, а я займусь хозяйством». И занялся — как мог.
А я старалась работать, но много ли заработаешь переводами, да и времени у меня на работу почти не оставалось. Все, что он делал в порядке «занятий по хозяйству», приходилось теперь тайком доделывать и переделывать — а как хорошо и быстро он все это умел раньше! — и все время что-то готовить, приносить, уносить, подавать лекарства, мыть, переодевать, перестилать, подтапливать печки. А вскоре и оставлять его одного стало страшно. Он перестал спать по ночам, мучился удушьем и непереносимыми кошмарами, от которых и мое присутствие уже не спасало.
Он уже едва мог сам дойти до туалета, но все еще ругал меня за то, что я не даю ему «заниматься хозяйством». Этот человек, который не умел болеть, «отдыхать», наслаждаться ничегонеделанием, вот так должен прожить зиму? А весной? «Посидит в саду на солнышке…» А летом? Все в том же саду, в тенечке… А я буду надевать ему кислородную маску, переставлять ему ноги и перекладывать руки, чтоб не занемели, ему, который еще не так давно расспрашивал меня с любопытством — как это, когда болит голова.
Крепись, говорили мне добросердечные врачи. Готовься, говорили прямодушные. И я крепилась, а потом начала потихоньку готовиться — готовить себя.
Он ужасно мучается.
Это не жизнь ни для кого, а для него особенно.
Ему не только больно, и тяжко, и страшно, но и безмерно унизительно. В нашей совместной жизни много было криков, обид, обвинений. Но унижать друг друга? Этого мы себе не позволяли.
И кончаются деньги. Положим, денег займу — на сколько хватит? Впрочем, надолго и не понадобится.
Вместе с врачами я продлеваю его муки. Не ради него — ради себя. Чтобы потом не терзала совесть.
Мне изнурительно тяжко смотреть на него. Мне тяжко ухаживать за ним и дышать изо дня в день, из ночи в ночь душным, безнадежным, пропитанным лекарствами воздухом страданий.
Все это напрасно — ему не выжить.
И я отпустила его. Держала, держала — и отпустила.
Ничего не переменилось в нашем обиходе, просто я перестала его держать.
Собака лежит в саду под кустом бугенвиллеи и ждет хозяйку.
Обожженные коротким мартовским снегом ветки бугенвиллеи только-только начали покрываться бледными листочками и не дают тени, хотя солнце уже припекает. Под отцветшим миндальным деревом тени больше, но оттуда видна не вся территория, которую собака по-прежнему охраняет. Она охраняет ее, хотя в доме больше никто не живет.
Собака не знает, что в доме никто не живет. Ей об этом не сказали, или, может быть, хозяйка и сказала, а собака не поняла. Она знает лишь, что хозяина теперь нет, нет совсем, а хозяйка в доме не ночует. Первое не трогает собаку, ибо представляется ей в порядке вещей, а второе сильно удручает ее, но само по себе ничего не значит. Собака привыкла к тому, что хозяйка уходит куда-то, там у нее свои, неизвестные собаке дела — может быть, она ищет там нового хозяина. Важно то, что она каждый день приходит к собаке, и кормит ее, и подолгу сидит на террасе, рассказывая ей о своих переживаниях и делах, иногда плачет, а собака лежит у нее на ногах и с наслаждением слушает непонятные звуки.
Беспокоиться собака начинает, лишь когда хозяйка собирается уходить. О том, что хозяйка намерена скоро уйти, собака узнает задолго до того, как та подымается с места. Хозяйке, видимо, неловко перед собакой, поэтому она всячески старается скрыть от собаки момент своего ухода. Она всегда приносит с собой что-нибудь особенно вкусное, но дает это ей не сразу, вместе с обычной едой, а под самый конец, чтобы собака, занятая лакомством, не просила ее остаться. И собака прекрасно знает, зачем ей дали этот вкусный кусок, и все-таки не может удержаться, опускает голову в миску и почти немедленно слышит щелчок запираемой двери. Тогда, с непроглоченным куском в зубах, она мчится в тот конец сада, откуда видно поспешно уходящую хозяйку. Собака не лает и не скулит ей вслед, а просто стоит и смотрит, выронив кусок на землю. Может быть, хозяйка обернется. Тогда она непременно пойдет назад и побудет еще немного. Но хозяйка оборачивалась только первые дни, а теперь уходит быстро, почти убегает. Вот ее уже не видно. Собака подбирает кусок, съедает его и ложится под куст бугенвиллеи. И принимается ждать хозяйку.
Я убегала от моей собаки, изнывая от жалости и стыда. У меня, разумеется, были серьезные причины, достаточное оправдание для моих действий. Я не могла больше жить в этом чудесном доме с садом, где нам втроем, вместе с собакой, было раньше так хорошо. Не могла жить одна в этом большом наемном доме в восточном Иерусалиме. А там, куда я переселилась, собаке жить невозможно, говорила я себе. Она ведь всю жизнь прожила в саду, на свободе (свобода…), она не сможет жить в тесной городской квартире на четвертом этаже и выходить два или три раза в день на поводке, чтобы в грохочущей сутолоке людей и машин торопливо справить свои надобности на раскаленном грязном асфальте. Она там с ума сойдет. Истоскуется. Зачахнет.
Да я ведь и пробовала взять собаку к себе, и убедилась, что это невозможно. Она ни за что не хотела спускаться по лестнице, а когда я, вся взмыленная, сволокла наконец ее вниз, в густую толпу, собака сперва застыла на месте, и я не могла ее сдвинуть, она упиралась всеми четырьмя лапами и хрипела, полузадушенная удавкой. Прохожие натыкались на нее, толкали, ругались, а она лишь ворочала безумными глазами — и ни с места. Потом же вдруг присела и сделала все свое прямо под ноги спешащим людям. Что было дальше, лучше не вспоминать.
К тому же, если я возьму ее к себе, она полностью свяжет мою свободу. Мне тогда ни уйти надолго, ни уехать. Я ведь теперь живу одна. Нет, я не могла позволить собаке жить со мной. Конечно же, я ее не брошу, она моя любимая собака, я буду часто ездить к ней, кормить и ласкать, она и не заметит перемены. Да ведь это и не навсегда, просто я сейчас в тяжелом состоянии, мне нужно время, чтобы прийти в себя и придумать какой-нибудь выход. А пока ей лучше в саду, в привычной обстановке, на воле. Так я себе говорила.
Прошло и лето, и осень, жаркая погода сменилась холодным ветром с короткими угрюмыми дождями, а для собаки ничего не менялось. Она не привыкла к новому положению вещей и по-прежнему все время ждала хозяйку, но уже не надеялась, что та вернется по-настоящему. В доме стал ночевать незнакомый молодой человек, и он давал собаке еду и воду в те дни, когда хозяйка не приходила. Собака ела и пила, но на молодого человека не обращала никакого внимания. И дней таких, когда хозяйка не приходила, становилось все больше. Когда же она приходила, собака теперь не кидалась ей на грудь с радостным визгом, а стояла, опустив голову и вяло покачивая хвостом. Она знала, что хозяйка забежала ненадолго, погладит, поцелует в морду, пошарит по шерсти, нет ли блох и клещей, скажет несколько ласковых слов — и уйдет, кинув на прощанье собаке традиционный вкусный кусок. И собака съедала этот кусок, но уже не прислушивалась к щелканью замка и не бежала провожать хозяйку.
Собака не плакала и не злилась на хозяйку, ей постепенно становилось как-то все равно. Жирные голуби в безлюдном саду сильно обнаглели, загадили все выходившее в сад окно дома, но охотиться собаке хотелось теперь все реже. Сторожить свой сад и дом с прежним рвением она уже не считала нужным. Лишь по ночам, когда молодой человек не приходил ночевать и собаке бывало особенно страшно, она обегала иногда сад и на каждом углу грозно лаяла и рычала. А днем она большую часть времени спала не просыпаясь и не реагируя на шумы, лишь изредка по привычке окидывая взглядом свою территорию.
Но однажды сквозь крепкий дневной сон до собаки донесся давно не слышанный звук — звонили в дверь. Это значило, что там стоит посторонний человек и хочет войти в дом.
Звонок на двери был очень громкий, и звук этот вызвал в спящем мозгу собаки образ хозяина, как он когда-то долго прилаживал этот звонок специально для хозяйки, чтобы она слышала его из сада. Собака продолжала спать, потому что хозяйка никогда не звонила, а остальное ее никак не касалось. Она знала, что молодого человека в доме нет, а звонок все звонил и звонил, и перед закрытыми глазами собаки все маячил призрак хозяина, темный и расплывчатый, и от этого у нее тоскливо тянуло внутри, но и просыпаться ей было жаль, ибо, пока был хозяин, была тут и хозяйка. Все же долго выдерживать это смутное ощущение, не то тягостное, не то радостное, собака не могла. Она дернулась всем телом, пытаясь его стряхнуть, и проснулась.
А тут и звонок замолчал, и собака по привычке поплелась в тот конец сада, откуда видно было приходящих и уходящих людей.
Но человек вовсе не уходил, а перелезал через поросшую колючими кустиками каперсов ограду. Он не видел собаки, но она сразу учуяла его запах. Если бы не этот запах, ничего бы, скорее всего, и не произошло. Она отогнала бы человека угрожающими скачками издали, лаем, рычанием, вздыбившейся шерстью. Ей совсем не хотелось драться, и если бы человек влез, например, в дом, она бы, наверное, и не пыталась его прогнать. Это был уже не ее дом. Но человек посягал на место обитания собаки, и к ней мгновенно вернулся сторожевой инстинкт. К тому же этот запах.
Собака никогда не нападала на людей первая, она только не позволяла прикасаться к себе никому, кроме хозяйки. Но было три категории людей, к которым она питала особую неприязнь и страх, и если кто-то из них оказывался вблизи, она теряла голову и жестоко кусалась. Люди эти были арабы, религиозные евреи и полицейские. И вот сейчас от лезшего в сад человека до нее донесся один из этих запахов.
Собака не зарычала и не залаяла. Молча, без всякого предупреждения, она прямо с места взвилась вперед и вверх и впилась зубами в переброшенную через ограду ногу. Человек страшно закричал и затряс ногой, цепляясь руками за колючие сухие побеги каперсов. Он раскачивал ногой и с размаху бил собаку о каменную ограду. Собака могла бы терпеть долго, все крепче сжимая челюсти и с каждым толчком все глубже вгрызаясь в икру, но в этом не было нужды. Человек достаточно напуган и теперь наверняка уйдет. Она разжала зубы и, отхватив налету лоскут от штанины, легко спружинила на землю.
И человек действительно ушел. Да так быстро, что, когда собака, смахнув лапами налипший на морду кусок ткани, взглянула вверх, там уже никого не было.
Собака для верности полаяла ему вслед и побежала к миске. Раздвинув носом нападавшие туда листья, она напилась воды и легла под давно засохший куст олеандра — спать и ждать хозяйку.
К этому времени я уже несколько опомнилась от потери. И, как это часто бывает после шока, траурной эйфории и последующей апатии, бросилась в усиленную деятельность. Чувство вины перед ушедшим грызло меня не переставая, и мне все казалось, что допустила я это оттого, что в жизни моей не было нужного порядка, твердой линии, правильной установки. Слишком широко я истолковала понятие своей свободы, свободы оказывать себе снисхождение, жить, как получится, без чрезмерных усилий. Ну, врачи сказали — сделать ничего нельзя. А я и поверила. Предпочла поверить? Очень уж тяжело было? Себя пожалела? И отпустила. Да как быстро! Несколько месяцев всего.
И я клялась себе, что такое со мной больше не повторится и для этого необходимо навести порядок в себе и в своей жизни. Что сталось, того не переделаешь, но впредь…
Начать новую жизнь. Бросить курить — главнейший признак душевной разболтанности и потакания себе. Следить за давно запущенной внешностью. Разобрать и упорядочить кучи бумаг, оплатить просроченные счета, ответить на письма. Найти побольше работы и работать регулярно. Восстановить повисшие в воздухе связи, выходить на люди. И при этом все время помнить, что жизнь тех, кого ты любишь, полностью зависит от твоей воли, помнить это всегда, всегда. Очень мало таких у тебя осталось. Держать эту волю всегда в напряжении, не отпускать ни на минуту.
И я лихорадочно хваталась то за одно, то за другое. Переехала на другую квартиру. Подстриглась по-новому и даже завилась, купила новую одежду. Покопалась в бумагах, но без курения не могла сосредоточиться как следует. Подгоняемая жестоким никотиновым голодом, бегала по городу, навещая без звонка старых друзей, чтобы сказать им, что я их люблю. Визиты эти и нежные мои слова друзья принимали с недоумением и неловкостью, однако из почтения к трауру сказать ничего не решались. Меня это не смущало, мне казалось, что этим я хоть как-то искупаю свою вину. Я полна была решимости никого больше не отпускать.
К тому же непрерывное движение облегчало немного мои муки — и душевные, и физические. Трудно сказать, от чего я в то время страдала больше — от недавней потери или от некурения. Вероятно, от второго. Иногда мне казалось — только бы закурить, только бы избавиться от этого ужаса, от этого неутолимого ощущения постоянной нехватки, а с той, с первой, главной нехваткой я постепенно как-нибудь справлюсь. Только бы закурить. Да и не иногда мне так казалось, а все время, каждую минуту. Но я говорила себе: а, опять хочешь пожалеть себя? оказать себе снисхождение? И не закуривала. До поры до времени.
Если долго смотреть на небо
Если долго смотреть на небо, Ты увидишь как звёзды падают. Это я для тебя, хозяйка, Их бросаю с радуги лапкою! Если долго смотреть на небо, Облака ты увидишь белые, Это я и мои товарищи Друг за другом по радуге бегаем! Ну, а если из облака серого, Вдруг дождинки на землю закапали, Это я и мои товарищи- МЫ СОСКУЧИЛИСЬ....И
Думать будем, когда корунд добудем
С нашими питомцами всё время происходят разные приключения, никогда не знаешь, что ещё может произойти, а случаются самые невероятные вещи. Вот и сегодня мы пришли с Канисом на собачью площадку, где каждое утро нас ждут зененнхунд Патрик и такса Фрида. Такса обычно ходит с хозяйкой без поводка, она никуда не убегает, сегодня же
Шлемоносец
Страшный грохот, доносившийся с лоджии, обрушился на головы хозяев. - Нас штурмует спецназ, - охнула хозяйка, обращаясь к смачно жующему мясо главе семейства, - что натворил? - М-м-м, мясо, - промямлил хозяин, - вкусное. - Какое мясо, - взвизгнула хозяйка, - почему нас штурмуют? - Дай спокойно поесть, - огрызнулся хозяин, - сходи,
Клад
- Что делать? Куда спрятать? – метался по квартире с огромной костью в зубах Канис. Забежал в кухню и подбежал к цветочным горшкам, стоящим на полу. - Сетка. Сюда не зарыть. Клад — это то, что покладено! Не покладено, положено! — Нет! Не положено, закопано! — Не закопано, а зарыто! Кинулся обратно в комнату. Огляделся. Никого не
Кость
Кость, брошенная собаке, не есть милосердие; милосердие: это кость, поделенная с собакой, когда ты голоден не меньше ее. Джек Лондон Кости вещь хорошая. За них надо держаться всеми лапами. Мясо съел быстро и всё, а кость можно долго мусолить. У каждого есть, что помусолить и у каждого своё. Хозяйка без косточки, что министр без