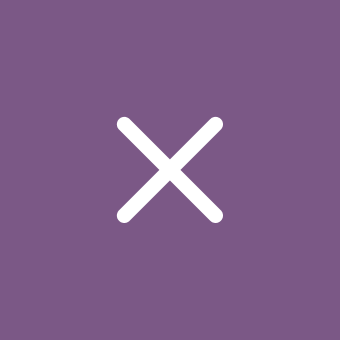Только радость доставлявший
Вдруг из посадок донесся лай. Теперь это был Пыж. Голос отдалялся: он кого-то гнал. Куница? Уж больно резво идет, гон, как у выжлецов… Я бросился за Пыжом. Как потом оказалось, все мы, не зная, кто из нас ближе к собаке, кинулись за ней.
Я бежал краем сосновой посадки, густым зеленым одеялом застлавшей песчаные бугры. Гон был на том же расстоянии — Пыж уходил с такой же скоростью. В открывшейся просеке далеко мелькнула фигура: кто-то спешил за лайкой. Азарт преследования охватил меня. Шло состязание — кто раньше подбудет к собаке. Неважно, что куница, кто бы ни убил ее, шла в погашение лицензии — мне хотелось, чтобы выстрел был мой! Это нужно было для Пыжа: точку в его работе должен поставить хозяин! Теперь я был уверен, что это куница: в молодой посадке ей было трудно спрятаться, Пыж не давал ей оторваться и затаиться. Куница шла поверху, Пыж гнался внизу. С бугра мне открылась далеко уходящая густая зеленая щетина — целое море посадок! Откуда-то из их глубины доносился все такой же далекий, «ходовой» лай Пыжа. Когда, наконец, куница остановится, когда Пыж остановит ее?! У меня не хватало дыхания, темнело в глазах. Километра два я бежал по песку в тяжелых сапогах, с ружьем…
Но вот, кажется, лай стал исходить из одного места. Может, задуплилась? Тогда все пропало: деревьев здесь, в одном из самых старых культурных лесных хозяйств России, из-за этого не рубят… Ближе, ближе, совсем близко лай!
Посадка обрывалась. Дальше шел осинник, толстые дубы и сосны, редкие березы. Задавливая дыхание, я осторожно выглянул из-за угла посадки. Пыж лаял под молодой, раза в два выше посадки сосной. По направлению его взгляда я осмотрел сосну и увидел куницу. Она лежала калачиком в «ведьминой метле», темном сгустке хвои. Близко за сосной деревьев не было. Чтобы уйти в старые дубы, нужно было несколько прыжков сделать по земле. Вися на хвосте, Пыж не дал кунице их сделать.
Дальше все стало просто. Менее всего интересен в такой охоте сам выстрел. Куница выпала из «ведьминой метлы» и свалилась на Пыжа. Он поймал ее на лету и, распаленный долгой погоней, так сжал челюсти, что, мне показалось, я слышал, как хрустнул ее череп.
Это был единственный случай такого обращения с добычей. Будучи во всем редкостно деликатным, Пыж никогда не мял дичь. На охоте его деликатность была порой излишней. Я пережил однажды несколько неприятных минут, когда раненная на земле, пытавшаяся взвершиться куница была поймана, «вежливо» придушена Пыжом, а потом спустя время ожила и начала ворочаться в рюкзаке, толкать в спину.
Пыж искал и, случалось, поднимал русаков, отдавая «по зрячему» тонкий, захлебывающийся, «заячий» голос. Подбывали гончие, и Пыж, когда в дело вступали «профессионалы», возвращался. Но в Карелии, где мы охотились одни, он молча тропил поднявшегося беляка, и заяц шел, пока Пыж не добирал его и не начинал гнать с голосом. Он шел по кабану, принимался гнать лосей и косуль — я пресекал эти его попытки, чтобы не потерять помощника по перу и кунице. У него было врожденное обожание леса и неприятие открытых пространств: явная гримаса разочарования была видна на его физиономии, когда мы, будучи в воронежских краях, выходили на опушку бора и нам предстоял путь по пашне. Он долго стоял на высоком краю межевой канавы в надежде, что я одумаюсь и вернусь в сосны, потом бежал вдоль поля и, отчаявшись, соступал в пашню и скучно трусил бороздой.
Пыжа можно было, пожалуй, кое-когда упрекнуть лишь в том, что свою смекалку он использовал, чтобы избежать лишних жизненных трудностей: «Умный в гору не пойдет!» Он быстро догадался, для чего мы с Аллой, разойдясь в лесу, скликаемся потом, и поразил нас, когда стал по-особому подавать голос «на отклик», чтобы без лишних хлопот сразу найти нас. Пыж прекрасно ориентировался в лесу, находил нас по следу, но зачем эти поиски, когда можно обойтись без них?!
При дальних охотах в бору Коля раза два брал у себя в совхозе лошадь и телегу. Гончим в голову не приходило проехаться на лошади, они трусили обочь дороги. А Пыж, если не было охоты, тотчас запрыгивал в телегу и сидел рядом со мной. Привычка путешествовать вместе? Или все тот же принцип: «Умный гору обойдет?»
Пыж был рассудителен, спокоен и мудр, очень сдержан в выражении своих чувств. Неизменно расположенный ко всем людям, он вежливо отзывался на внимание постороннего человека, позволял поласкать себя, прилично ласкался в ответ и бежал дальше, тут же потеряв интерес к случайному человеку. Он никогда не был назойлив или капризен. Все это делало его «удобным» не только в лесу или в дороге, но и в быту — ведь большую честь времени мы все-таки проводили в очень людном городе.
Ни разу за много лет он не залаял — если только не просили «дать голос» — в квартире. Соседи говорили, что поначалу после нашего ухода, предвидя долгие часы одиночества, он порой тихонько подвывал, тоскуя, но быстро смирялся со своей участью и умолкал.
Ему было совершенно чуждо шкодничество и воровство. Мы забывали на табуретке — на уровне его носа — купленные пряники, печенье, самое большое его лакомство, но никогда он не позволял себе к ним притронуться. Он мог положить на табуретку свой нос и ждать в терпеливом молчании, не угостят ли, и если этого не делали — со вздохом разочарования уходил от соблазна. Только однажды «бес попутал» его. Вскоре после появления у нас он изжевал угол косынки. Мы не сразу поняли, вернувшись, чем так смущен и подавлен пес, пока не обнаружили косынки. До конца его жизни она стала укором ему: достаточно было взять в руки злополучную косынку, как на его физиономии появлялось крайнее смущение, он тупился и как бы извинялся: «Да, было, что ж теперь делать… Стыдно, конечно… Так уж получилось…»
В своем поведении, в своих привычках Пыж был подлинно аристократичен. Это было в характере, такому не научить. Учтивость к людям сочеталась в нем с чувством большого собственного достоинства, он был галантен по отношению к сукам и никогда попусту не приставал к ним, более того, он джентельменски отшивал от них других кобелей, бестактно и не вовремя домогавшихся их благосклонности. Никогда не увязывался он за собачьими свадьбами, перекатывавшимися по пустырям и задворкам пестрым тявкающим клубом разновеликих шавок. Его опрятность доходила до курьезов и веселила моих друзей-охотников.
«Ну, Пыж, начинаются твои страдания!» — по пути с охоты, где Пыж лазал в болотах и вываживался в тине, предстояло перейти широкую, разбитую в черноземе тракторами и машинами дорогу. Чертыхаясь, мы перебредали ее по колено. Пыж, аккуратно обходивший в городе лужицы на асфальте, не мог лезть в грязищу. Он мотался вдоль большака, искал местечко посуше, находил выложенные кирпичи и старался ступать по ним, брезгливо поджимая лапы.
Как бы ни был он голоден — никогда не хапал он еду, ел неторопливо и аккуратно, не брызгал и не растаскивал куски. И почему-то всегда оставлял недоеденным «церемонный» кусочек: «бонтон» сомнительного свойства, но такова уж была привычка. И так же аккуратно, преувеличенно замедленно брал он угощение из рук.
Ему очень нравилось, когда кто-нибудь, спускаясь на его «уровень обитания», ложился на полу. «Улыбаясь» такому чудачеству людей, он спешил развалиться рядом и замирал в тихом блаженстве. Трогательно и необычно было видеть лежащим на полу рядом с собакой нашего друга Поэта, человека очень сдержанного, не терпевшего в людях неискренности и демонстрации чувств. Это называлось у него так: «пыжетерапия».
Пыжа любили наши друзья и знакомые, с ним можно было спокойно ехать в гости в любой, самый чопорный дом и быть уверенным, что пес не подведет и не оконфузит.
— Только с Пыжом! — обговаривали друзья, приглашая в гости.
В чужом доме он ложился там, где расстилалась прихваченная подстилка, это становилось его «местом». Если, соскучившись, его приглашали к столу — он подходил не спеша, клал на колени голову, помахивая хвостом, церемонно брал угощение и возвращался на место.
Мы часто бывали с Пыжом, а случалось, и жили по несколько дней в загородном домике моего давнего старшего друга, Старого Писателя. Нам отводилась маленькая летняя комната, где у Пыжа было постоянное место в широком жестком кресле. В этом доме, в свое время известном кровными охотничьими собаками, Пыж был желанным гостем. По вечерам во время неторопливых бесед-чаепитий он чинно сидел между мной и хозяином и бурчал потихоньку, когда его просили «рассказать» что он видел во сне или «почитать» развернутую перед ним газету.
— Будь он человеком, я думаю, он был бы не прочь пропустить и рюмочку, — посмеивался благодушно в усы Старый Писатель и, почти полностью ослепший в эти годы, ощупью находил голову Пыжа. Гладил ее сухой, с высокими мосолками рукой.
Пыж был дополнительной связью в моей дружбе с близкими мне людьми, я как бы чувствовал на себе отсвет их расположения к собаке.
С ним можно было без опаски ехать и в незнакомый дом. Однажды я даже рискнул его взять на утренник во Дворец пионеров. По знаку он вышел из-за кулис ко мне на сцену, по тихой команде «голос» «поздоровался» с ребятами, но, избегая слепящей рампы, допустил бестактность: сел к ребятам спиной.
Уверившись в его послушании, усвоенных привычках и рассудительности, я не брал его на сворку. Дойдя до края тротуара, он сам останавливался и ждал команды о переходе улицы. Так мы совершали длинные прогулки по Москве. Проходя мимо тренировочных собачьих площадок, я порой соблазнялся — слаб человек! — возможностью щегольнуть его исполнительностью. Достаточно было молча показать на бум, на лестницу — и Пыж легко и непринужденно, как бы играючи, пробегал по бревну, взбирался и опускался по крутым ступенькам, перепрыгивал через глухой забор. Проделав все это мимоходом, между прочим, мы шли дальше; оставляя в завистливом молчании владельцев громоздких упирающихся овчарок, для которых такая площадка была главным делом жизни…
Известно, что собаки, достаточно хорошо изучившие хозяина, угадывают его душевное состояние и соответственно настраиваются радостно, печально, задумчиво и тому подобное.
Пыж моментально догадывался, вышли ли мы просто погулять или встретить у дома ожидаемых гостей. Тут уж ему было не до прогулки; он напряженно приглядывался к сходившим на остановке, осматривал встречных, он ждал и издали узнавал знакомых. Но как он порой угадывал мои желания! Этого я не берусь объяснить.
Однажды мы, будучи с Пыжом в гостях, зашли навестить одного из старейших наших писателей, широко признанного литературного Мэтра, жившего в том же доме. Несмотря на годы, он продолжал плодотворно работать со свойственной ему энергией интеллекта и силой своего оригинального, парадоксального мышления. У него побаливали, слабели ноги, и он, всунув их в теплые расшнурованные ботинки, сидел под пледом в кресле.
Уходя, я чуть задержался в дверях, еще раз прощаясь с ним взглядом. Он все так же сидел, склонив на грудь голову с большим лбом, грустно смотрел вслед. Сердце у меня сжалось — так больно было видеть его, так вопиюще не вязалась мощь его духа с детски-беспомощной покорностью перед тем, что влекли годы… Вдруг Пыж вернулся из дверей к нему, молча положил на колени голову, глядя ему в лицо, и Мэтр, никогда не отличавшийся слабостью характера и сентиментальностью, мужественно перенесший на долгом веку многие жизненные и литературные потрясения, неожиданно прослезился, с чувством прижал голову собаки…
Совершенно противоположного свойства эпизод произошел на перроне в Воронеже, где у нас была пересадка. Я отправился компостировать билеты, а Алла с Пыжом остались у брезентовой кучи нашего «экспедиционного» барахла. Под вечер на вокзале началось массовое движение бутылконосов. По неясной для меня причине, а может, по случайному стечению обстоятельств у всех мужчин, проходивших перроном, в руках были бутылки — самые разные, из-под ситро, кефира, воды…
Необычный багаж и женщина с собакой привлекли внимание одного из носителей бутылок. Он остановился и, глумясь, стал кривляться и приставать к Алле. Я издали увидел это, бежал с билетами и досадовал: «Пыж, хоть бы турнул его… Такой большой, серьезный пес… Интеллигент несчастный…»
И Пыж, который считал невозможным «поднять руку» на человека, который смущенно «извинялся», если ему в тесноте электрички придавливали хвост, Пыж вдруг злобно ощетинился, кинулся к наглецу, и тот, отпрянув и разом отрезвев, трусливо ретировался, бормоча ругательства. Вмешиваться уже не пришлось. А Пыж все еще морщился, гневно покашливал вслед алкашу, и надо было видеть, сколько в его гримасе было гадливого презрения к человеческому подонку!
Пыж прожил у нас около тринадцати лет. Сколько же ему было всего? Специалисты, глядя на его зубы, уверенно заявили, что ему, когда он появился у нас, от роду было не более полутора-двух лет. Но безупречная белизна зубов сохранилась у него до старости, он все так же в пыль дробил сырые мослы: по зубам ему всегда можно было дать меньше лет, чем на самом деле.
В его безотцовском паспорте, который мы выправили на первой же выставке охотничьих собак, по экстерьеру стояло «очень хорошо» — высшее, что может получить пес без родословной. У него не было дефектов породы, исключая «некоторую нежелательную женственность общего вида», но это уж, пожалуй, из области вкуса. Судьба, отняв у него поначалу право участвовать — без родословной — в племенном воспроизводстве, оставив возможность лишь «бульварных» связей, в дальнейшем к нему благоволила: в него не стреляли, как в лайку моего знакомого, не украли на охоте, как это произошло с гончей моего другого приятеля, не удавили ради шапки… Сколько же человеческих выродков, омерзительной сволочи шевелится возле чистого дела охоты, влезает и пачкает ее!
К старости у Пыжа стали побаливать суставы и «очугунел», отяжелел крестец. Он все более осторожно укладывался спать и поднимался «по частям», как старик с разбитой поясницей, медленно, с кряхтеньем и вздохами, стараясь избежать острой боли, «размазать» ее во времени. Забыв об этом, прыгнув где-нибудь через канаву, он без видимой, казалось бы, причины вдруг вскрикивал — это давал знать о себе остеохондроз.
Первой, быть может, отметила приближение старости собаки дачная белка. Они с Пыжом были знакомы давно, у них установились отношения своеобразной игры в «охоту». Заслыша приближение к участку белки, перескакивавшей с дерева на дерево, Пыж встречал ее лаем. Белка приходила на нашу сосну с прибитым на стволе скворечником, прыгала по ветвям, возмущенно дергала взъерошенным хвостом и громко цокала, понося лайку. Выполнив этот ритуал, белка спускалась в скворечник и спала там, выставив в леток мордочку, а Пыж занимал исходное место у порога.
Первое знакомство с дачной белкой чуть не обернулось для Пыжа трагедией. Увидев ее ранним утром на сосне, Пыж вспрыгнул на перила балкона. Я спал на полу, проснулся и увидел над собой качавшегося на доске шириной в ладонь, вперившего взгляд в сосну, скулившего от возбуждения пса, и сердце у меня похолодело: балкон был под крышей, на втором этаже, а внизу торчали колья георгин, да и вообще падение с такой высоты ничего хорошего не сулило. Я сдернул Пыжа назад — и все обошлось, слава богу…
Теперь белка пришла на сосну, а Пыж не услышал ее. Белка повертелась, поцокала на собаку — она не проснулась. И белка удалилась в скворечник…
Случайные собеседники на улице задают почему-то всегда один и тот же вопрос: сколько лет вашей собаке?
Пыж был в форме, не седел — на его белой маске седина была бы и не видна, — и люди удивлялись, узнав о его возрасте. Но мы-то замечали, как быстро сдает наш пес. У него изменился аллюр: он теперь почти не бегал рысью, сразу переходя в кургузый «обрубленный» галопчик, как бы подтягивая сразу обе задние ноги. Он больше и не так чутко спал, уставал в лесу, дольше линял. Как пенсионер, Пыж получил право спать на диване. Порой он даже не слышал, как мы возвращались домой, открывали дверь. Ему все тяжелее давались поездки в электричке и на поезде, его надо было подсаживать, и он волновался, шумно дышал, в глазах у него появлялось беспокойство, боязнь опоздать, не справиться… Все, как у людей…
В это время у нас появилась машина, и транспортные осложнения отпали. Снова стали доступны поездки на дачу и в лес. Как большинство собак, Пыж обожал автомобиль. Все равно куда, лишь бы ехать. Он лежал на заднем сиденье, подремывал, умиротворенно помаргивал бровками — мы все были вместе, мы ехали, и он был спокоен. Так после некоторого перерыва мы снова оказались в Карелии.
— Глянь-ка ты, жив еще! — изумился мой давний приятель Миша, лесник и охотник, когда из машины появился Пыж. Да и в городе, и в местах наших охот все меньше оставалось сверстников Пыжа, с которыми он охотился, встречался на прогулках…
Иногда я брал его на охоту, добираясь поближе на машине, но охотничий круг наш исчислялся теперь сотнями метров, приходилось часто отдыхать, а где потруднее — нести его на руках. У него все еще было хорошее чутье, но сильно изменился голос, став глухим и хриплым. Все-таки он чаще оставался домовничать, ждал нас и радовался жадно обнюхивая битую дичь.
В канун одного из наших семейных праздников, отмечавшихся по обыкновению с друзьями, Пыжу стало плохо. У него и раньше случались приступы, он жаловался на живот, но так тяжело не было никогда. Он лежал на боку, откинув голову, полубессознательно и послушно глотая таблетки. Впервые он напачкал чем-то черным, как запекшаяся кровь. Это указывало на болезнь печени. Пыж безжизненно обвисал на руках, когда я укладывал его поудобнее. Что было делать? Попытаться обзвонить друзей, дать «отбой»? Или, пересилив себя, дать жизни возможность идти своим чередом, дать попрощаться с Пыжом тем, кто любил его?
Мы повезли его в лечебницу.
— Да, печень, — подтвердил врач. — И сердце слабенькое… Оставляйте, все равно он не жилец. С месяц, может, протянет…
Ну, нет! Разве за этим мы приехали? Пыж прожил после этого больше двух лет. Всяко бывало в это время: полоса некоторого улучшения сменялась обострением и слабостью, и снова мы вводили камфару, чтобы поддержать сердце. Пес сидел на диете, но жил, радовался, голова у него была ясная, он был предан нам и верил в нас.
 Мы еще раз побывали в Карелии, и Миша уже не удивлялся, когда нужно было помочь Пыжу взобраться на крыльцо или сойти на землю, чтобы побродить возле дома, подремать на солнце в траве, над которой проносились ласточки-касатки.
Мы еще раз побывали в Карелии, и Миша уже не удивлялся, когда нужно было помочь Пыжу взобраться на крыльцо или сойти на землю, чтобы побродить возле дома, подремать на солнце в траве, над которой проносились ласточки-касатки.Ни одно из домашних животных, исключая, может быть, лошадь, не служит таким объектом хозяйской гордости, как собака. Людям мало ее любви и преданности — для удовлетворения своего тщеславия им требуются медали и дипломы, призовые места на выставках. И все это, конечно, приятно, так же, как приятно ловить взгляды посторонних, отмечающих породность и красоту вашей собаки, ее энергию и темперамент. И хотя охотнику несравненно большее удовольствие, нежели официальное признание породности собаки, приносит ее хорошая работа на охоте, ее отменное воспитание и хороший характер, очень неплохо, когда это главное подкреплено призом и дипломом. А если пес вступил в тот возраст, когда его нужно выносить на руках, когда ему трудно ходить, задрать ногу у столба? Как все праздники, праздник жизни собаки не долог. Наступает старость, сложная пора во взаимоотношениях хозяина и слуги.
Не знаю, правы ли мы были, до последнего поддерживая старого больного пса, пичкая его лекарствами, снотворными и болеутоляющими средствами. Каждый в эту пору вправе принять то решение относительно дальнейшей судьбы собаки, которое представляется ему наиболее целесообразным и приемлемым в этическом отношении. Нельзя осуждать выстрел, разрешающий такого рода затруднение на промысле в тайге — это акт милосердия.
Но здесь мы имели возможность облегчить участь собаки. И в этих условиях мы поступали так, как считали единственно возможным. Много лет мы гуляли с Пыжом в одно и то же время трижды в день. Теперь, чтобы не испытывать его стариковское терпение, я выходил с ним почаще. Движение нужно было ему, но без нажима и понуканий, от которых он начинал суетиться, переживать свою немощь и становиться жалким. Прогулки представляли всего лишь путь по коридору к лифту и от лифта на черный двор, к клочку не заасфальтированной земли. Но и это стоило ему трудов. Он тихо, с остановками, брел от куста к кусту, рассеянно провожал померкшими, залиловевшими глазами прохожих, принюхивался к запахам улицы. В сумерках он видел особенно плохо и после улицы в подъезде искал лапой на ощупь первую ступеньку, чтобы потом одолеть привычный лестничный марш. Все, как у людей…
Я уносил покорно висевшую на руках большую собаку и старался сохранить невозмутимость, не обращать внимания на удивленные, осуждающие, сожалеющие, насмешливо презрительные взгляды встречных, их вопросы и реплики:
— Больная, что ли? Сдали бы ее!
Но существование такой точки зрения лишь укрепляло мое упрямое желание облегчить и продлить дни Пыжа. Да и что они знали о нем?!
Я почти два года не охотился, а если и выходил в лес, то «самотопом» — разве это охота? Нам памятен был случай, когда несколько лет назад мы взяли на денек, чтобы устроить, выброшенного на пустырь обнаруженного Пыжом щенка, и Пыж был совершенно убит от огорчения, замкнулся и отказался от еды, заподозрив желание заменить его… Нет, заводить новую собаку при нем было нельзя.
Нам опять предстояла поездка в Карелию. Как Пыж перенесет два дня пути? Машину он любил и чувствовал себя в дороге лучше. Как всегда, мы оборудовали ему место на заднем сидении. Снова движение, долетающие в окно запахи, отдых где-нибудь в лесу, у воды. Пыж повеселел, оживился, но все так же я вынимал его из машины, укладывал на месте.
В деревне нас встретила Мишина лайка Булька. Пыж обрадовался, сдвинул ушки, намереваясь «погусарить», но зад у него подвихнулся, завалился… Ему стало хуже.
Я уехал вымыть автомобиль. Стояли последние дни августа, солнечные, теплые и тихие. Машинально я таскал ведра, тер щеткой колеса и думал о Пыже: что сейчас там, дома?
Когда я вернулся, Пыж спал. У него обострились боли, он стал жаловаться, и Алла дала ему обезболивающее, успокаивающее снотворное…
Он отошел, не проснувшись.
Наутро мы отвезли его на Дианову гору. Сколько мы охотились с ним в этих местах! Мы были когда-то последними жителями брошенной лесной деревеньки, расположившейся на самой высокой точке Заонежья. Потом дома разобрали, и пышно разросшаяся трава, цветущие герани и ромашки скрыли места построек, редкие закопченные кирпичи.
Пыжа похоронили под большим камнем с плоской, словно бы специально срезанной стороной. На ней я написал имя собаки, трижды выстрелил, и эхо широко раскатило звук.
По дороге домой встретили Мишу.
— Это ты стрелял?
— Я, Миша…
— М-да… На тебя что-то не похоже… — он замялся, мучась от того, чего по долгу службы не мог не сказать мне, давнему своему другу. — А ты, однако, отстрелялся… День-то сегодня, как ты знаешь, не охотничий…
И узнав, что это были за выстрелы, вздохнул облегченно: дружба остается дружбой.
Через Дианову гору проходит небойкая дорога, пересекающая полуостров Заонежье. Редкий не остановился здесь, чтобы полюбоваться видом, открывающимся с горы, на десятки километров: Онего и повенецкий берег, идущие к Беломорканалу суда, леса с поблескивающими в них озерами… Высота, простор, онежские и лесные дали настраивают мысли на высокий и неторопливый философский лад. Мои спутники вслух читают короткую надпись на камне: «Пыж», и я добавляю про себя оставшееся ненаписанным: «… только радость доставлявший».
Порою жаль, что я – собачник
Не быть им очень много значит: Постель – без шерсти и слюней, Я утром нежился бы в ней, А не спешил в жару, мороз, Смотреть, как будет какать пёс. По вечерам б не в парк бежал, А на диване возлежал, Смотрел футбол, тянул пивко, Попутно обрастал жирком.
Мой пес. Елена Гриценко
Елена Гриценко Мой пес, мне так нужны твои глаза - Доверчивые, строгие, как память, Такие есть в церквях на образах, Что тихо разговаривают с нами. Меня ты согревал своим теплом, Усталых рук касаясь мокрым носом. Ну как случилось, что твое "потом" Вдруг оказалось земляным откосом? Скажи как отыскать твои следы Через
Владимир Шевчук. Щенок
Владимир Шевчук Маленький грязный щенок, сидел в куче желтой листвы возле бордюра. Проходящих мимо людей, он провожал, каким-то странным мечтательно-печальным взглядом. Кто-нибудь проходя, бросал ему кусочки бутербродов, да пирожков. Но он, не прикасаясь к пище, начинал, жалобно скуля, уходить с нагретого места. Некоторых это
Охотничьи собаки
Михаил Михайлович Пришвин Охотничья собака — это ключ от дверей, которыми закрываются от человека в природе звери и птицы. И самое главное в этом ключе — собаке — это ее нос, удивительный аппарат для человека, способного чуять лишь немного дальше своего носа. Нос собаки, или чутье, как говорят охотники, эта холодная мокрая замазка
Наблюдения за хозяином и собакой
Интересные вещи происходят между хозяевами и собаками. Шли мы с Канисом по улице. Навстречу идёт мужчина, чем-то похожий обликом на моего мужа. Невольно посмотрела на него дольше, чем на других прохожих. Канис тут же встрепенулся и попытался меня подтащить к мужчине ближе, завилял хвостом. Пришлось объяснить, что я его не знаю,