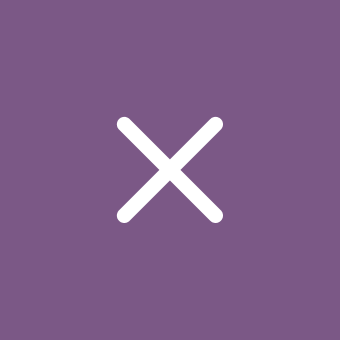Чукоча (продолжение)
Чукоча (продолжение)
Чукоча превратился в годовалую, очень рослую лайку в роскошной серебристо-серой одежде со светлым волчьим воротником. В Дальнем его все признали и говорили, что он очень похож на свою мамашу, которая проживала во Встречном, только более рослый и красивый. Никто не оспаривал моих прав на него, так как Чукоча всем своим поведением выказывал такую преданность и родственные симпатии ко мне, что меня зауважали. На Севере зачастую судят о человеке по собаке, которую он воспитал. Только звали Чукочу упорно Севером, и он действительно олицетворял Север: громадный и прекрасный, никогда не бравший подачек, не входивший ни в какой контакт со взрослыми и очень любивший детей. К собакам относился уважительно, какого бы роста они ни были, но без всякого заискивания. Однажды только он ухватил залетного бульдога, которого бросили ленинградцы, за глотку, но сразу отпустил, как только матерый здоровый бродяга визгом запросил пардону. В Дальнем большая редкость собачьи драки. Ни в каком другом месте я не встречал таких дружных и справедливых собак и понял, почему это так. Собаки просто переносили на свои взаимоотношения атмосферу искренности, связывающую людей в Дальнем. Очень хорошие люди живут в Дальнем. Они заранее хорошо и благожелательно относятся к каждому новенькому, и эта добрая заинтересованность воспитанных людей делает и плохого хорошим. Я очень люблю Дальний.
Однажды ко мне подошла Катенька, вся румяная, и засияла глазами-звездочками.
— Дяденька! Так вот какой медведь съел Севера, — показала на меня пальцем и убежала, довольная своей шуткой.
Чем дольше я жил в Дальнем, тем больше понимал, что мое время кончается и правила приличия требуют, чтобы я его покинул. Я все более и более мрачнел: Билибино тоже придется покинуть. Куда мне деваться с Чукочей? В Москву? Но там нет ни малейшей возможности обрести жилье. Кто мне сдаст комнату, да еще с собакой? Люди годами ищут. Ни у кого из моих знакомых не было квартиры, в которой они жили бы независимо и могли приютить меня даже без собаки. Я вспомнил все подъезды, подвалы, студии художников, новостройки, где ночевал, и понял, что Чукоче там не место.
Я спросил его:
— Что, махнем в Москву? Попьем пивка, поваляемся по помойкам? А?
Он в ответ ласково посмотрел на меня и помахал хвостом, соглашаясь: по помойкам так по помойкам, если с тобой.
Я отвернулся и жалко улыбнулся.
За неимением лучшего советчика пришлось обратиться с сомнениями к Мишке Есаулу и все ему честно рассказать. Он обрадовался:
— Так оставляй его здесь, у меня. У нас на Дальнем собаке не пропасть. Я зарабатываю восемьсот в месяц. Не веришь? Пищеблок у нас богатый. А в Москве собака загнется. У ей туберкулез будет. Сколько собак с Севера возили на материк, все через год, ну два подохли. Не выдерживают они ваших комфортов. Хотя какой у тебя комфорт? Так, бич ты московский.
Это было правдой.
Вечерами я слушал Мишкины рассказы, как хорошо будет Чукоче у него, ревновал и убеждал себя, что все это временно, что куплю в Подмосковье какую-нибудь веранду для себя и Чукочи и вернусь за ним, а туберкулез ерунда.
Так я пришел к выводу, что с Чукочей хоть временно, но придется расстаться.
Перед самым отъездом я пошел с ним на место нашего первого лагеря в восьми километрах вверх по Тополевке, где он девять месяцев тому назад укусил Славика пониже спины, сел на остов моей с Игорем палатки и чуть не завыл от горького предчувствия. Чукоча участливо заглядывал мне в глаза, шутливо рычал и неуклюже толкался, пытаясь развеселить меня. Ему, как любому верному другу, предстояло узнать об измене последним.
Вертолетная площадка была в двухстах метрах от поселка. Наутро я сидел на крыльце Мишкиного бунгало и, когда увидел, что экипаж идет к вертолету, позвал Чукочу в комнату, запер дверь, сунул ключ под крыльцо и, подхватив рюкзак, побежал к вертолету. И когда уже сидел в нем и вертолет медленно и лениво начал махать винтами, раздался вой Чукочи. Я слышал его впервые, он был громок и пронзителен, этот даже не вой, а вопль, крик любви и призыва, нежелания поверить в случившееся и в то же время вопль отчаяния, страдания и смертельной тоски. В нем были все оттенки человеческого горя — преданности и желания тотчас же простить меня, если я вернусь. Он заклинал и молил меня остаться, он обещал отдать за меня жизнь, если я вернусь, и я не выдержал, бросился к двери, но штурман толкнул меня на место и злобно выкрикнул мне в лицо:
— Застегни ремни!
В Дальнем знают обо всех все, а новости распространяются быстро.
В Москве все устроилось неожиданным образом. Из Внукова утром я приехал к Лене забрать свои носильные вещи — не ходить же мне по Москве в грязно-зеленом и прожженном у костра ватнике и кирзовых сапогах. Я, видно, очень плохо знаю женщин. Лена бросилась мне на шею, и такая искренняя любовь была написана на ее враз порозовевшем лице, что я одурел и даже позволил ей загнать меня в ванну, что вообще-то было очень кстати.
За завтраком я окончательно обалдел — так были мне рады и теща, и Маринка, дочь Лены. Тогда я рассказал о Чукоче, и все наперебой закричали на меня, почему я не привез такую чудесную собаку, что нужно немедленно ее выписать.
Я хотел было лететь за моим другом немедленно, потратив на дорогу четыреста рублей, но получить пропуск на Чукотку без вызова оттуда было делом невозможным.
Я позвонил Вите, объяснил ему положение вещей и получил приглашение в начале июня лететь на Чукотку снова.
Полтора месяца прожил очень счастливо: забыв про пивбары, слонялся по Гоголевскому бульвару и плевал в воду с Каменного моста, вечера проводил в семейном кругу и все рассказывал, рассказывал о Чукоче, вспоминая малейшие подробности наших отношений.
Маринка глядела на меня круглыми глазенками, в восхищении хлопала ладошками и все спрашивала, когда я его привезу. Дома — я повторяю, дома — бушевал праздник.
В начале июня я снова прилетел в Билибино и, отпросившись у Вити на три дня, побежал на вертолетную площадку, чтобы с первой попавшейся оказией лететь на Дальний. На площадке увидел многих знакомых из Дальнего, они на меня странно смотрели и не подходили здороваться. Тут я увидел Катеньку и, бросившись к ней, нагнулся, схватил ее за плечи и жадно спросил:
— А как мой Чукоча?!
Она молчала, но глаза ее медленно наполнялись слезами и стали черными и огромными. Наконец она не сдержалась, ее прорвало, она плюнула мне в лицо и закричала:
— Вы предали его, гад, вонючка, вор! — Она заколотила кулачонками по мне. — Украли и предали, пропойца, жулик!
Ее всю трясло. Слезы так и катились из ее глаз, а я ничего не понимал и не отпускал дрожащие плечики. Наконец она обняла меня за шею и заплакала, заплакала в голос, так ничего мне не сказав.
— Севера застрелил Мишка Есаул через неделю после твоего отъезда, — произнес мужчина рядом со мной, и я узнал отца Катеньки. — Север ему не давался, он его покусал. Мы все виноваты. Мы смеялись над Мишкой, говорили, что такая собака никогда не будет его.
Земля закружилась у меня в глазах, и, чтоб ее остановить, я сел, не выпуская из рук Катеньку. Надо мной склонились люди, суетились, что-то говорили.
Но я видел Мишку в запале подлого торжества, слышал выстрел, видел в конвульсии свивающееся в клубок тело Чукочи и слышал предсмертный визг — крик победы, освобождения от моего предательства.
И я увидел, как навек закрылись глаза моего младшего брата и друга и вытянулось, закостенев, его тело.
Я сел на скамейку около зала ожидания для пассажиров. Ребята принесли воды, и я пил, не чувствуя ее, а ощущая только привкус соленых слез.
Мне рассказали, что Мишка сделал шапку из шкуры Чукочи, но после этого бунгало его подожгли, а его избили.
— Где он? — спросил я, выстукивая мелкую дробь зубами о стенку стакана.
— На мыс Шмидта перевелся, куда — неизвестно.
К вечеру я сломался совсем. В чьем-то лице промелькнула для меня рожа Мишки Есаула, и я нехорошо поступил с этим человеком. Меня забрали в КПЗ Билибинской милиции, но я и там не угомонился. Тогда вызвали Витю и выгнали меня из КПЗ под его ответственность, наказав явиться вдвоем утром.
Утром милицейский капитан повел меня в суд, но Витя зашел к судье первым и вышел оттуда с трясущимися губами.
Судья, однорукий мужчина в коричневом костюме, сидел и долго не обращал на меня внимания. Потом он уставился на меня, а я в пол.
— Что ж, ты продал, что ли, собаку этому Есаулу?
— Нет.
— Приручил, а потом бросил?
Слезы подступили мне к горлу, милицейский капитан настороже стоял сбоку.
— Ему некуда было ее везти тогда, его жена выгнала, — сказал вдруг он. — Все в Дальнем знают его историю.
Судья помолчал, вынес постановление о штрафе в тридцать рублей и сказал капитану, чтоб в двадцать четыре часа духу моего не было бы на Чукотке.
— А то он и не такое натворит, на Шмидт еще поедет, — прибавил он.
С тех пор прошло три года. Я живу хорошо, припеваючи. Всю зарплату несу своей Эвридике, имею единый проездной и рубль в день, на который что захочу, то и куплю. Старых друзей я видеть не желаю, а новые целуют ручку моей жене, усиленно курят в комнате, ведут скандальные разговоры о том, что Сидоренко разводится, и я с удивлением узнаю в этом хоре свой голос.
Я принимаю деятельное участие в жизни семьи: хожу в магазины и на рынок. Жена мною довольна. Вешу я сто с лишним килограммов. Лена тоже раздобрела и по воскресеньям подтыкает по утрам подушки и приносит кофе в постель.
Но иногда… иногда поздней осенью и ранней весной свирепый ветер Чукотки врывается мне в вены и жгучий звон мороза стоит в моих ушах. И тогда время раскрывает свою бездонную пасть, из нее гулко гремит и гремит выстрел, и, сжимаясь и разжимаясь, как стальная пружина, катится по снегу Чукоча в предсмертных конвульсиях. И долго после этого плетутся дни мои, а жена говорит, что у меня глаза больной собаки.
Но вот месяц назад, в марте, мне приснился сон. Я сидел в своей комнате на диване и бездумно наблюдал за тем, как нежный сумрак весеннего вечера сгущался в сиреневый мрак. Вдруг дверь бесшумно растворилась — и вошел… Чукоча, каким он был в три месяца от роду, неумелый и неловкий щенок.
Он прыгнул в кресло напротив меня.
От радости, от счастья, что я вижу его, дыхание у меня перехватило.
— Ты знаешь, я ведь не нарочно оставил тебя в Дальнем, так сложилось.
— Знаю, — молчал Чукоча.
— Я тебя люблю до сих пор, но как вернуть тебя, не знаю. Вернись, прошу тебя. Я погибаю от тоски по тебе.
— Не надо, — молча улыбнулся Чукоча, — оттуда, где я, не возвращаются. Но ты не печалься, я тоже люблю тебя, любовь моя — в тебе. Любовь моя — ты сам.
Скрипнула дверь, и Чукоча растаял в сумерках весеннего вечера.
Можно верить собаке!
Я знаю: можно верить собаке -Она не покинет тебя никогда И будет безмолвно любить одинаково Твои золотые и злые года. В минуту неистовых воплей Борея, Покорная общей с тобою судьбе, Не мысля куда-нибудь скрыться скорее, Еще горячее прижмется к тебе. И если ты даже бродяга бездомный, Она, своих ласковых чувств не дробя, В шалаш
О собаках
Николай Боровков Вам ещё не говорили? – Мне собаку подарили! Вот уже четыре дня Есть собака у меня. Но скажу вам по секрету: У неё породы нету. Беспородная бедняжка Называется ДВОРНЯЖКА. * * * Этот пёс зовётся ДОГ. Строен он, высок и строг. По-английски, кстати, так Называют всех собак.
Сказка про собачий хвост
Карел Чапек Когда она родилась, была это просто-напросто беленькая чепуховинка, умещавшаяся на ладошке, но, поскольку у неё имелась пара чёрненьких ушек, а сзади хвостик, мы признали её собачкой, и так как мы обязательно хотели щенёнка-девочку, то и дали ей имя Дашенька… Ну, слушай, Даша, если минутку посидишь спокойно, я тебе
Чукоча
Владимир Филимонов (История собаки, которую предал человек) Не будет покоя моей совести, если я не расскажу про моего щенка, мою собаку, которую предал. Ни в чем не могу найти себе оправдания: ни в легкомыслии своем — я совершенно взрослый человек, ни в том, что чужое влияние сказалось на моем поступке, ни в том, что хотел дать
Nico Haus Beck
Продолжение таблицы 5-3