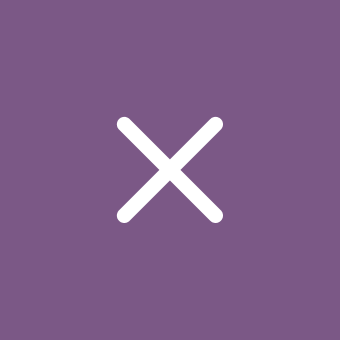Чукоча
Эта лодка была блудливым и коварным существом, всегда готовым сесть на мель или стать бортом к течению, угрожая перевернуться в самом неподходящем месте. Если замешкаться поблизости от нее, она сама по себе срывалась и бодалась, опрокидывая в воду, что при температуре воздуха +5 +7 °C было неприятно и заставляло взвинчивать темп, чтобы согреться и высушить собственным теплом одежду. Иногда река сужалась, Игорь садился в лодку и греб, а Чукоча вскакивал на нос и победоносно глядел на меня, безлошадного и бегущего звериной тропой по берегу, чтоб не отстать от лодки. Но это он просто разыгрывал меня, потому что чувство товарищества брало верх — и он выпрыгивал и бежал вместе со мною. Несколько раз нам попадались завалы, приходилось разгружать лодку и перетаскивать бутор в обход на горбу.
И вот однажды Хеточан преподнес нам подлость, которую мы никак от него не ожидали, — протоку прорыва. Как и всякая беда, она шла рука об руку с другой: небо продырявилось в самом гнусном месте — и на нас обрушился потоп из воды, ледяной крупы и снега. Мы разбрелись в разные стороны, ища обход, но и его не было — с одной стороны болото километров на пять, с другой — противотанковые надолбы из многовековых здоровенных павших лиственниц, через которые и без груза не пролезть.
Выход был один — прорубить просеку для лодки. На это ушло восемь часов, и по меньшей мере два из них запомнились мне на всю жизнь: чтоб дать лодке путь длиной сантиметров в пятьдесят, я все это время как заведенный махал топором, срубая под собой утопленную в воде лиственницу. Я стоял на этой лиственнице неуверенно. Вода доходила мне до щиколоток, рядом, заглушая все звуки, ревел Хеточан, уходя в глубину; руки налились усталостью, ноги дрожали: соскользни сапог с лесины — Игорь не смог бы найти даже мой труп. Ни он, ни Чукоча не могли ничем мне помочь — топор был один, страховаться не было возможности, и я рубил и рубил проклятую лесину, зверея от усталости и перенапряжения. Оружие валялось на берегу, мокрый до костей Чукоча сидел на берегу, не глядя на меня, и иногда нервно перебирал лапами. Время от времени я просил Игоря перебросить мне линь — он мне был нужен чисто психологически, ни от чего не спасал, только эта тонкая ниточка придавала эфемерную уверенность, что существует волосок, спасающий мне жизнь. И когда занемевшие руки чуть не выронили топор — а он у нас, повторяю, был один, — я испугался окончательно и хотел было запросить у себя пардону, но мой взгляд упал на щенка.
И показалась мне в его позе, в нарочно повернутой голове и как будто не глядевших в мою сторону глазах такая гордость за меня, такая сверхъестественная вера, что сердце осветила мгновенная, заглушающая все остальное радость — и я почувствовал пальцы, сжимающие топор, ноги, закаменевшие в уверенности, что не подведут, и победу. И уже с новой силой я рубил и рубил, как артист перед зрителями — перед моим щенком и Игорем, сознавая, что я герой, и сердце пело от радости. Наконец лесина надломилась, я еле успел» перескочить на противоположную часть завала, и Игорь крикнул мне, чтобы я выбирался: лодка пройдет. Когда они скрылись из глаз, я сел совсем без сил. Воздуха не хватало, я всхлипывал, трясся и хотел побыстрее справиться с собой, чтобы меня, героя, не видели в слабости.
Через час на ватных ногах перебрался через завал к чистой воде. Небо прояснилось, Игорь развел костер и готовил чай. Чукоча с пресыщенным видом ел изловленного утенка, а меня ждала сорванная Игорем ветка смородины. Эта смородина была вместо букета цветов и оваций, в Игоревых серых глазах, не смотревших на меня, чувствовалось понимание, и я был ему за это признателен.
Чем больше я узнавал Игоря, тем больше он мне нравился. В нем напрочь отсутствовали черты богемствующей публики, с которой я знался в Москве. Наоборот, его сущность заключалась в каждодневном труде, к которому он относился со всей серьезностью порядочного человека. Он брался только за трудные дела и всем в жизни был обязан самому себе: не ловчил, не хитрил, не спихивал на другого неблагодарную работу. Он был геологом, а я, собственно, разнорабочий: его знания делали возможным выполнение задания. Но если я брал пробы, или мыл шлих, или делал расчистку, а он камералил, то ничего зазорного для себя он не находил в том, чтобы, приготовив специально для меня любимый мною индийский чай, принести его мне прямо на место. В то же время он высказывал напрямую, не очень считаясь с последствиями, все, что он думает о человеке, вредном для дела. Игорь считал личные взаимоотношения вторичными.
Очень характерно было для него такое поведение. Перед нашим семидесятипятидневным маршрутом он получил двенадцать писем от жены, которую очень любил. Я получил только одно, другие больше, но двенадцать — никто. Как же он их читал? Каждый вечер в палатке при свече Игорь прочитывал только одно письмо; на следующий день он перечитывал его опять с начала до конца и с конца до начала; на третий день читал следующее; на четвертый опять перечитывал его и так далее. Когда я его спросил:
— Почему ты хотя бы не прочитаешь последнее? Может, там самое важное, может, не дай бог, кто-нибудь заболел, — он ответил разумно:
— Она бы послала телеграмму.
Игорь был начисто лишен профессионального снобизма, эдакого высокомерия адепта, и это выгодно отличало его от других геологов. К тому же он обладал острым чувством собственного достоинства и поэтому никогда не позволял задеть его у других.
К Чукоче Игорь переменил отношение, так как щенок стал в некотором роде нашим кормильцем. Он обнаруживал уток и поднимал куропаток.
— Ты был прав. Нам повезло с этой лайкой.
Если нам повезло обоим, то я просто сорвал банк у судьбы. Я полюбил Чукочу, а он меня. Так редко приваливают нам в жизни привязанности и ответная любовь, что взрослый человек начинает их особенно ценить, но все-таки до конца не понимает огромности своего счастья.
Где бы ни находился Чукоча — бегал по берегу в поисках живности, просто лежал или даже спал, — он излучал внимание и преданность. Он никогда не ласкался ко мне: чукотские собаки начисто лишены сентиментальности московских, декоративных, в сущности, собак, они скроены из другого материала и душевно богаче своих собратьев. Щенка воспитывали наши с Игорем отношения. И Чукоча подсознательно и точно вписался в нашу взаимосвязь и стал ее неотъемлемым звеном.
На меня и, наверное, на Игоря влияла атмосфера, которую создавал Чукоча. Мое желание понравиться щенку выражалось в том, что я старался быть инициатором всего благородного и полезного. Мне казалось, что какой есть я, таким станет и он, что его внутреннее «я» лепится сейчас с моего.
Под конец маршрута мы не представляли, как бы шли без Чукочи. На последнем переходе, за день до контрольного срока, Игорь мне сказал:
— Если захочешь и сможешь, я приглашаю тебя на следующий полевой сезон. У меня не было еще лучшего спутника.
Я смутился почти до слез.
— С собакой? — спросил я.
— Да, — улыбнулся Игорь.
… Лагерь был разбит за месяц до нашего прихода и имел уютный и обжитой вид, даже банная палатка была установлена.
Все радовались нашему появлению: видно, беспокоились за нас, чему я, надо сказать, немало удивился. Ребята сразу начали топить баню.
Славик побежал ловить хариусов — с провиантом было худо, а на физиономиях теток было разлито столько сахара, что впору было пить чай вприглядку.
— Ой, — сказали они, — какая собака большая.
Меня обрадовало их умиление, но все-таки, желчно подумал я, меня на мякине не проведешь, посмотрим, что будет завтра.
За Чукочей тоже наблюдал подозрительно: не, примется ли он за старые штучки, — но щенок с хозяйским видом обследовал лагерь, безошибочно нашел палатку, приготовленную для нас с Игорем, и, украв на кухне брезент, устроил рядом апартаменты для себя.
Вечером, распаренные и умиротворенные, мы сидели у костра. Чукоча, отвыкший от большого сравнительно скопления людей, уткнул нос мне в бок, и мы оба слушали рассказ Игоря о маршруте и достойном поведении Чукочи. Обычно немногословный, Игорь выбрал краски и в радужных, победительных тонах изобразил полезную деятельность щенка для разведки геологии золота нашего куска карты.
Даже я смотрел на Чукочу новыми глазами и видел, что он стал на редкость красивой и рослой даже для своего возраста лайкой.
Полтора месяца мы отрабатывали радиальные маршруты из этого лагеря, все они для нас с Игорем были развлечениями по сравнению с тем, что было на трех пройденных нами речушках.
Стоял август, тундра расстилалась вызывающе красивая, вся золотая и зеленая, необыкновенно добрая, — брусника, клюква и еще многие витаминные продукты были в таком изобилии, что четырехлитровые банки мы собирали за полчаса.
Ночи постепенно удлинялись, рассветы были веселые, закаты добродушные, теток стало не узнать: приветливые и улыбчивые, они беспрекословно общипывали куропаток, которых мы приносили, и собирали с них пух на подушки.
Чукоча очень хорошо понимал все и всех, но слушался только меня, к, когда кто-нибудь выходил из палатки с ружьем, он подбегал ко мне и смотрел, помахивая хвостом, разрешу ли я ему идти на охоту. Я махал рукой с видом милостивого паши, и Чукоча только тогда отправлялся на работу с другими.
Когда же я ходил на охоту в компании, он всех подстреленных куропаток приносил мне: так сказать, дружба дружбой, а табачок врозь. Я только посмеивался, наблюдая ущемленное самолюбие товарищей. Кроме того, он разработал какую-то свою технологию отлова зайцев, загоняя их, вероятно, на косу, и приносил утром одного — трех, снисходительно при этом посматривая на Дежурного.
Сентябрь был не таким приветливым, как август, по утрам хрустел ледок под сапогами, тундра ясно давала понять — хорошего понемножку, давайте смывайтесь. Все маршруты мы отработали.
По вечерам тетки терзали меня вопросами:
— Как вы намерены поступить с собакой?
— Возьму ее в Москву.
— Чукотская собака не выдержит московской жизни. Она умрет от туберкулеза. Не было еще ни одного случая, чтобы северная собака выживала в Москве.
Нехороший призрак встал перед моими глазами: я представлял Чукочу, кашляющего в окровавленный платочек, и инстинктивно прижимал его к себе. Он в недоумении поглядывал на меня.
На душе было скверно.
… В середине сентября выпал снег, провиант подошел к концу, не было даже галет. Теплых вещей не было тоже, и мы мучились от холода. Вертолет с начальником партии должен был прилететь за нами еще две недели тому назад, а его все не было. С тоской мы наблюдали редкие «аннушки» и «Ми» четвертые и восьмые, пролетавшие в стороне от нас.
— На Черский, — комментировали мы. — На Билибино.
Чукотка в наше время вся излетана, во многих местах изъезжена, но еще не полностью пройдена ногами.
Переживания и холод сблизили всех, мы часто обсуждали проблемы освоения Чукотки, ругали Витю, клеймили презрением технику, которая не про нашу честь:
— Когда геологам дали вездеходы, они перестали находить.
Слушали циркулярные сообщения Маргулиса — главного инженера разведуправления — о вреде браговарения и о том, как один техник с наганом полез на медведя, навестившего лагерь с визитом дружбы, и, хотя первой же пулей попал ему в сердце, все равно медведь успел задрать его. Выслушали приглашение Маргулиса всем рабочим геологических партий, закончившим полевой сезон, остаться на зиму в геофизических партиях, что в дальнейшей моей судьбе сыграло определенную роль.
Сами мы вышли в эфир с семью радиограммами, в которых выражалось горячее желание увидеть в нашем лагере Витю и главным образом «Ми-8». Витя отвечал нам радиограммами, в которых ссылался на международное положение, на то, что Никсону вручили черную метку, выразили недоверие, что ли, на плохой урожай клюквы в Уругвае и так далее.
В конце концов Сан Саныч, разгоряченный температурой — 15 °C, послал радиограмму следующего содержания:
«Примула. Начальнику партии № 18. Вашу мать интересует время Вашего прибытия».
Через сутки на попутном вертолете Витя прибыл, но не затем, чтобы забрать нас, — вертолет должен был прибыть пятью днями позже, — а чтобы своим присутствием поддержать наш героический дух.
Увидев его, мы подобрели. Витя ходил два дня по лагерю, рассказывал, как в Магадане он слышал про то, как созрели вишни в саду у дяди Вани, говорил, что холод — это ерунда, и приводил в пример девочек из ресторана «Приморский», которые почти без всякой одежды не только не помирают, но весь вечер дрыгают голыми ногами.
Под конец он спохватился и передал нам письма. Одно было мне. Вот оно:
«Борис! Я хочу поговорить с тобой начистоту. Я твоя жена три года. Каждый год ты шесть месяцев шляешься по всему Союзу и даже не пишешь мне писем. Остальные шесть месяцев ты шляешься по московским знакомым или приводишь домой разных придурков, которых называешь поэтами и художниками. Они ничем не замечательны. Я так больше не могу. Сейчас у тебя должны быть деньги. Ко мне не приезжай. Считай это письмо официальным разрывом.
Лена».
До приезда в Билибино я только тряс головой, не в силах очухаться от этого нокдауна. Чукоча ходил за мной как тень, тоже заметно погрустневший.
Пора, наверное, пояснить мою жизненную ситуацию. По образованию я инженер. Женился рано, на третьем курсе, на студентке этого же института. Это была и ее и моя первая любовь. Она была моей первой женщиной, я был ее первым мужчиной. Пять лет пролетели в счастье, мы любили друг друга тревожно и чисто. Зарабатывал я неплохо на монтаже электронных систем.
На шестой год она изменила мне с моим приятелем. Внешним мотивом возникновения у меня рогов послужило то, что она считала меня чересчур прямолинейным и неперспективным, а порочность моего приятеля казалась ей привлекательной и необыкновенной. Как и многие из женщин, она хотела прожить множество противоречивых жизней: добропорядочной матроны, светской львицы, женщины, желанной для многих мужчин, жрицы любви.
Вдобавок, пользуясь моим шестимесячным отсутствием, она выписала меня из Москвы: причинивший зло единожды упорствует в злобе до конца.
Так я одним росчерком пера стал бродягой и изгоем, личностью асоциальной. Нет прописки — нет работы.
Семь лет домом мне служили вокзалы, палатки геологов, кубрики рыбацких судов, вагончики строителей. Я изучал географию мозолями. Был моряком, рыбаком, геологом, сплавщиком. Эта жизнь меня ожесточила, и я приобрел волчью стать — не тронь меня, а то сам тебя трону. Так было, пока не повстречал Лену. Она подобрала меня, бездомного и самолюбивого, как могла умыла и причесала и вообще прельстилась моим видом до того, что прописала меня — бродягу с просроченным паспортом. Так я обрел семью, но не оставил своих привычек.
В конце концов я понял всю неотвратимость Лениного послания. Снова у меня не было дома. Наутро я сдал Виктору билет до Москвы и, не входя в объяснения, потребовал, чтобы он пошел со мной в местное геологическое управление и порекомендовал для головокружительной карьеры разнорабочего. Он посмотрел на меня внимательно и сказал:
— У тебя что-то случилось?
Я ответил загадочно:
— Над всей Испанией ясное небо.
Витя, в сущности, был неплохим человеком и не упускал случая сделать добро, если это ему ничего не стоило. Поэтому он отыскал начальника партии, к которому я поступал в подчинение, и попросил его:
— Сергей Николаевич, проставь, если можешь, парню две лишних недели в табеле. Он сдал билет до Москвы стоимостью двести рублей, надо как-то компенсировать его. Кстати, можешь поручать ему более ответственные работы — у него высшее образование.
Сергей Николаевич был длинным малым ковбойского вида. Он оказался хорошим парнем, свойским и справедливым. Поучил меня работе интерпретатора, а самое главное — доверил водить вездеход, и в дальнейшем я три месяца заменял заболевшего вездеходчика.
Лагерь геофизиков, в который нас забросили с Чукочей и который стал нашим домом на шесть долгих месяцев, был полупустой: три палатки стояли свободные, а три занятые. В одной, самой большой, шатровой, жили девять рабочих, в двух других разместились четыре итээровца и начальник партии.
Когда я зашел в шатровую палатку, намереваясь жить там, — мест свободных было много, стояли нары в два яруса, — меня встретили недружелюбным молчанием: видно, начальник успел натрепать про высшее образование. Только кто-то сиплым голосом сказал с верхних нар:
— Собачка твоя, как только сунется в палатку, попадет в суп.
Я молча вышел, решив спуску никому ни в чем не давать: добро или зло надо доводить до конца — этому меня выучила жизнь.
Я выбрал заброшенную четырехместную палатку и за два дня устроил свой быт. Натаскал, напилил и нарубил дров месяца на два, установил печь — все делал молча, никого не просил о помощи. Нарубил дров и для банной палатки и с удовольствием попарился.
Вслед за мной в баню приперся весь лагерь: оказывается, кому ее топить, было у них спорным делом, многие ленились. Атмосфера немного разрядилась — ко мне подобрели, но не все.
На третий день произошел все-таки взрыв. Коля, по кличке Совнархоз, ударил беспричинно Чукочу, тот прыгнул, вцепился ему в рукав телогрейки и оторвал его. Совнархоз схватился за топор, подоспел я, выбил топор у него из рук и отделал за милую душу. Коля побежал в палатку и выскочил с ружьем. Вслед за ним высыпал весь лагерь.
Оружие заряжено — оружие должно выстрелить, или Коле не жить больше в лагере, он понимал это лучше моего. Злость и отчаяние охватили меня. Коля целил куда-то рядом со мной. Я понял — в Чукочу — и прыгнул наперерез направлению выстрела, надеясь только на то, что ружье заряжено жаканом, а не дробью и пуля пройдет мимо. Кто-то успел ударить по стволам, и заряд дроби взбил снег у самых моих ног.
Все напряжение последних дней, отчаяние из-за Лениного письма, сделавшего меня снова бездомным, искали выход. Я ударил первого попавшегося в скулу так, что он упал как подкошенный, а это был Валентин, ударивший по стволам и спасший меня по крайней мере от увечья. Чувство уместной справедливости овладело ребятами, и скоро я стал плохо видеть: кровь из рассеченного лба заливала глаза; рядом рычал и рвал нападавших Чукоча. Неизвестно, то есть известно, чем бы это закончилось, если бы над нашими головами не прогрохотали подряд три выстрела. Стрелял Сергей Николаевич. «Вот для чего понадобилась твоя пукалка», — успел подумать я.
— Ну москвич, ну инженер, так тебя так, — сдавленным голосом прошипел он.
Я кивнул Чукоче и забрался в свою палатку. Там первым делом ощупал его — целы ли ребра? Он не возражал, молча стоял, понимая, видно, что я хочу узнать. Затем я осмотрел свои повреждения. Были разбиты оба надбровья, треснула кожа на лбу и на носу: кто-то вполне квалифицированно и минимум трижды заехал мне кулаком в брезентовой перчатке. Болел и нос, и ребра с левой стороны. Я смыл кровь тепловатым чаем, но она не останавливалась. Пришлось принести снег и прикладывать его к ранам, или как их там называют? Откинулся брезентовый вход палатки, вошел Валентин и, отобрав у меня снег, начал трудиться над моей головой: промазал все йодом, наклеил пластырь на нос и забинтовал лоб. Потом он сел и уставился на меня. Я взял осколок зеркала и стал любоваться собой. «Хорош красавец, — подумал, — теперь на морозе вся эта капуста будет болеть».
— А ведь это я ударил по стволам, — без всякого выражения сказал Валентин. — А ты? Мне нашатырь десять минут нюхать давали, пока очухался.
— Так всегда бывает, — ответил я, успокаивая готового к прыжку Чукочу. — Попадает больше тем, кто делает тебе хорошо, а не плохо.
— Тебя начальник зовет в столовую палатку, гнать собирается.
Когда мы зашли в столовую, там собрались все. Никто на меня не глядел. Чукоча остался за дверью, и я физически чувствовал его незримую поддержку.
Сергей Николаевич первый нарушил молчание:
— Вот что, москвич, собирай свои шмотки и проваливай завтра по холодку. До Дальнего пятьдесят километров, ходок, я слышал, ты знатный, дойдешь.
Я подумал: «Так не выгоняют, сволочи вы». Вслух ответил:
— Хорошо, — и собрался выходить.
— Постой, — остановил меня начальник. — Нам ты ничего сказать не хочешь? Ну извиниться, что ли? За дерьмо, что ли, нас считаешь? Ведь мы хотели, чтоб ты стал нашим товарищем. Ты же интеллигентный человек, институт кончал, — издевательски закончил он.
— Тамбовский волк вам будет хорошим товарищем, а я вас действительно за дерьмо считаю. — Жестокость снова поднималась во мне, и я был рад ей: значит, не надломила мой дух побитая морда.
Колька Совнархоз поднял голову, и я поразился — так она расцвела всеми цветами радуги за такое короткое время.
— Если человек за собаку под выстрел бросается, он хороший человек, никогда и товарища в беде не бросит. А дерьмо — это я. И если его гнать, то меня и подавно. Но на прощание, — он повернулся ко мне, — я у тебя, Боря, прошу извинения. Но все-таки пойми меня: ты у меня топор запросто отобрал — что мне оставалось делать? Ты ведь вон какая дубина здоровая.
Все повернулись ко мне и заулыбались. И так неожиданно добры были улыбки на их корявых, обветренных лицах, что закрутился ватный туман у меня в глазах и коленки дрогнули. Кто-то пододвинул мне чурбан. Я понял: с этими людьми мне жить.
Шесть месяцев прошли и оставили у меня в памяти свет немногословной и суровой дружбы. Конфликт этот только спаял коллектив, потом Сергей шутил, что всегда впредь будет устраивать в лагере драки, они как прививки против раздоров.
На Севере, как я многократно убеждался, плохих людей нет. Север их не терпит, он нещадно выбраковывает любителей длинного рубля, любителей въехать на чужой спине в рай. Он немноголюден, Север, и поэтому каждый человек проникается ощущением собственной полезности для коллектива. Каждый действительно необходимый винтик в общественном механизме. От этого рождается чувство собственного достоинства, лепящего из человека Человека. Тайны белого колдовства — белого безмолвия (очень все-таки верное определение снежного царства Севера) — делают людей сопричастными почти первобытной природе; людское отребье как уникум встречается только в небольших городках.
В апреле мы вышли на Дальний, и там я получил расчет — хорошие деньги. Временный приют нашелся у Мишки Есаула — быстро приобретенного друга. Я принес с собой двадцать килограммов сохатины, а у Мишки была поставлена брага.
И вот однажды Хеточан преподнес нам подлость, которую мы никак от него не ожидали, — протоку прорыва. Как и всякая беда, она шла рука об руку с другой: небо продырявилось в самом гнусном месте — и на нас обрушился потоп из воды, ледяной крупы и снега. Мы разбрелись в разные стороны, ища обход, но и его не было — с одной стороны болото километров на пять, с другой — противотанковые надолбы из многовековых здоровенных павших лиственниц, через которые и без груза не пролезть.
Выход был один — прорубить просеку для лодки. На это ушло восемь часов, и по меньшей мере два из них запомнились мне на всю жизнь: чтоб дать лодке путь длиной сантиметров в пятьдесят, я все это время как заведенный махал топором, срубая под собой утопленную в воде лиственницу. Я стоял на этой лиственнице неуверенно. Вода доходила мне до щиколоток, рядом, заглушая все звуки, ревел Хеточан, уходя в глубину; руки налились усталостью, ноги дрожали: соскользни сапог с лесины — Игорь не смог бы найти даже мой труп. Ни он, ни Чукоча не могли ничем мне помочь — топор был один, страховаться не было возможности, и я рубил и рубил проклятую лесину, зверея от усталости и перенапряжения. Оружие валялось на берегу, мокрый до костей Чукоча сидел на берегу, не глядя на меня, и иногда нервно перебирал лапами. Время от времени я просил Игоря перебросить мне линь — он мне был нужен чисто психологически, ни от чего не спасал, только эта тонкая ниточка придавала эфемерную уверенность, что существует волосок, спасающий мне жизнь. И когда занемевшие руки чуть не выронили топор — а он у нас, повторяю, был один, — я испугался окончательно и хотел было запросить у себя пардону, но мой взгляд упал на щенка.
И показалась мне в его позе, в нарочно повернутой голове и как будто не глядевших в мою сторону глазах такая гордость за меня, такая сверхъестественная вера, что сердце осветила мгновенная, заглушающая все остальное радость — и я почувствовал пальцы, сжимающие топор, ноги, закаменевшие в уверенности, что не подведут, и победу. И уже с новой силой я рубил и рубил, как артист перед зрителями — перед моим щенком и Игорем, сознавая, что я герой, и сердце пело от радости. Наконец лесина надломилась, я еле успел» перескочить на противоположную часть завала, и Игорь крикнул мне, чтобы я выбирался: лодка пройдет. Когда они скрылись из глаз, я сел совсем без сил. Воздуха не хватало, я всхлипывал, трясся и хотел побыстрее справиться с собой, чтобы меня, героя, не видели в слабости.
Через час на ватных ногах перебрался через завал к чистой воде. Небо прояснилось, Игорь развел костер и готовил чай. Чукоча с пресыщенным видом ел изловленного утенка, а меня ждала сорванная Игорем ветка смородины. Эта смородина была вместо букета цветов и оваций, в Игоревых серых глазах, не смотревших на меня, чувствовалось понимание, и я был ему за это признателен.
Чем больше я узнавал Игоря, тем больше он мне нравился. В нем напрочь отсутствовали черты богемствующей публики, с которой я знался в Москве. Наоборот, его сущность заключалась в каждодневном труде, к которому он относился со всей серьезностью порядочного человека. Он брался только за трудные дела и всем в жизни был обязан самому себе: не ловчил, не хитрил, не спихивал на другого неблагодарную работу. Он был геологом, а я, собственно, разнорабочий: его знания делали возможным выполнение задания. Но если я брал пробы, или мыл шлих, или делал расчистку, а он камералил, то ничего зазорного для себя он не находил в том, чтобы, приготовив специально для меня любимый мною индийский чай, принести его мне прямо на место. В то же время он высказывал напрямую, не очень считаясь с последствиями, все, что он думает о человеке, вредном для дела. Игорь считал личные взаимоотношения вторичными.
Очень характерно было для него такое поведение. Перед нашим семидесятипятидневным маршрутом он получил двенадцать писем от жены, которую очень любил. Я получил только одно, другие больше, но двенадцать — никто. Как же он их читал? Каждый вечер в палатке при свече Игорь прочитывал только одно письмо; на следующий день он перечитывал его опять с начала до конца и с конца до начала; на третий день читал следующее; на четвертый опять перечитывал его и так далее. Когда я его спросил:
— Почему ты хотя бы не прочитаешь последнее? Может, там самое важное, может, не дай бог, кто-нибудь заболел, — он ответил разумно:
— Она бы послала телеграмму.
Игорь был начисто лишен профессионального снобизма, эдакого высокомерия адепта, и это выгодно отличало его от других геологов. К тому же он обладал острым чувством собственного достоинства и поэтому никогда не позволял задеть его у других.
К Чукоче Игорь переменил отношение, так как щенок стал в некотором роде нашим кормильцем. Он обнаруживал уток и поднимал куропаток.
— Ты был прав. Нам повезло с этой лайкой.
Если нам повезло обоим, то я просто сорвал банк у судьбы. Я полюбил Чукочу, а он меня. Так редко приваливают нам в жизни привязанности и ответная любовь, что взрослый человек начинает их особенно ценить, но все-таки до конца не понимает огромности своего счастья.
Где бы ни находился Чукоча — бегал по берегу в поисках живности, просто лежал или даже спал, — он излучал внимание и преданность. Он никогда не ласкался ко мне: чукотские собаки начисто лишены сентиментальности московских, декоративных, в сущности, собак, они скроены из другого материала и душевно богаче своих собратьев. Щенка воспитывали наши с Игорем отношения. И Чукоча подсознательно и точно вписался в нашу взаимосвязь и стал ее неотъемлемым звеном.
На меня и, наверное, на Игоря влияла атмосфера, которую создавал Чукоча. Мое желание понравиться щенку выражалось в том, что я старался быть инициатором всего благородного и полезного. Мне казалось, что какой есть я, таким станет и он, что его внутреннее «я» лепится сейчас с моего.
Под конец маршрута мы не представляли, как бы шли без Чукочи. На последнем переходе, за день до контрольного срока, Игорь мне сказал:
— Если захочешь и сможешь, я приглашаю тебя на следующий полевой сезон. У меня не было еще лучшего спутника.
Я смутился почти до слез.
— С собакой? — спросил я.
— Да, — улыбнулся Игорь.
… Лагерь был разбит за месяц до нашего прихода и имел уютный и обжитой вид, даже банная палатка была установлена.
Все радовались нашему появлению: видно, беспокоились за нас, чему я, надо сказать, немало удивился. Ребята сразу начали топить баню.
Славик побежал ловить хариусов — с провиантом было худо, а на физиономиях теток было разлито столько сахара, что впору было пить чай вприглядку.
— Ой, — сказали они, — какая собака большая.
Меня обрадовало их умиление, но все-таки, желчно подумал я, меня на мякине не проведешь, посмотрим, что будет завтра.
За Чукочей тоже наблюдал подозрительно: не, примется ли он за старые штучки, — но щенок с хозяйским видом обследовал лагерь, безошибочно нашел палатку, приготовленную для нас с Игорем, и, украв на кухне брезент, устроил рядом апартаменты для себя.
Вечером, распаренные и умиротворенные, мы сидели у костра. Чукоча, отвыкший от большого сравнительно скопления людей, уткнул нос мне в бок, и мы оба слушали рассказ Игоря о маршруте и достойном поведении Чукочи. Обычно немногословный, Игорь выбрал краски и в радужных, победительных тонах изобразил полезную деятельность щенка для разведки геологии золота нашего куска карты.
Даже я смотрел на Чукочу новыми глазами и видел, что он стал на редкость красивой и рослой даже для своего возраста лайкой.
Полтора месяца мы отрабатывали радиальные маршруты из этого лагеря, все они для нас с Игорем были развлечениями по сравнению с тем, что было на трех пройденных нами речушках.
Стоял август, тундра расстилалась вызывающе красивая, вся золотая и зеленая, необыкновенно добрая, — брусника, клюква и еще многие витаминные продукты были в таком изобилии, что четырехлитровые банки мы собирали за полчаса.
Ночи постепенно удлинялись, рассветы были веселые, закаты добродушные, теток стало не узнать: приветливые и улыбчивые, они беспрекословно общипывали куропаток, которых мы приносили, и собирали с них пух на подушки.
Чукоча очень хорошо понимал все и всех, но слушался только меня, к, когда кто-нибудь выходил из палатки с ружьем, он подбегал ко мне и смотрел, помахивая хвостом, разрешу ли я ему идти на охоту. Я махал рукой с видом милостивого паши, и Чукоча только тогда отправлялся на работу с другими.
Когда же я ходил на охоту в компании, он всех подстреленных куропаток приносил мне: так сказать, дружба дружбой, а табачок врозь. Я только посмеивался, наблюдая ущемленное самолюбие товарищей. Кроме того, он разработал какую-то свою технологию отлова зайцев, загоняя их, вероятно, на косу, и приносил утром одного — трех, снисходительно при этом посматривая на Дежурного.
Сентябрь был не таким приветливым, как август, по утрам хрустел ледок под сапогами, тундра ясно давала понять — хорошего понемножку, давайте смывайтесь. Все маршруты мы отработали.
По вечерам тетки терзали меня вопросами:
— Как вы намерены поступить с собакой?
— Возьму ее в Москву.
— Чукотская собака не выдержит московской жизни. Она умрет от туберкулеза. Не было еще ни одного случая, чтобы северная собака выживала в Москве.
Нехороший призрак встал перед моими глазами: я представлял Чукочу, кашляющего в окровавленный платочек, и инстинктивно прижимал его к себе. Он в недоумении поглядывал на меня.
На душе было скверно.
… В середине сентября выпал снег, провиант подошел к концу, не было даже галет. Теплых вещей не было тоже, и мы мучились от холода. Вертолет с начальником партии должен был прилететь за нами еще две недели тому назад, а его все не было. С тоской мы наблюдали редкие «аннушки» и «Ми» четвертые и восьмые, пролетавшие в стороне от нас.
— На Черский, — комментировали мы. — На Билибино.
Чукотка в наше время вся излетана, во многих местах изъезжена, но еще не полностью пройдена ногами.
Переживания и холод сблизили всех, мы часто обсуждали проблемы освоения Чукотки, ругали Витю, клеймили презрением технику, которая не про нашу честь:
— Когда геологам дали вездеходы, они перестали находить.
Слушали циркулярные сообщения Маргулиса — главного инженера разведуправления — о вреде браговарения и о том, как один техник с наганом полез на медведя, навестившего лагерь с визитом дружбы, и, хотя первой же пулей попал ему в сердце, все равно медведь успел задрать его. Выслушали приглашение Маргулиса всем рабочим геологических партий, закончившим полевой сезон, остаться на зиму в геофизических партиях, что в дальнейшей моей судьбе сыграло определенную роль.
Сами мы вышли в эфир с семью радиограммами, в которых выражалось горячее желание увидеть в нашем лагере Витю и главным образом «Ми-8». Витя отвечал нам радиограммами, в которых ссылался на международное положение, на то, что Никсону вручили черную метку, выразили недоверие, что ли, на плохой урожай клюквы в Уругвае и так далее.
В конце концов Сан Саныч, разгоряченный температурой — 15 °C, послал радиограмму следующего содержания:
«Примула. Начальнику партии № 18. Вашу мать интересует время Вашего прибытия».
Через сутки на попутном вертолете Витя прибыл, но не затем, чтобы забрать нас, — вертолет должен был прибыть пятью днями позже, — а чтобы своим присутствием поддержать наш героический дух.
Увидев его, мы подобрели. Витя ходил два дня по лагерю, рассказывал, как в Магадане он слышал про то, как созрели вишни в саду у дяди Вани, говорил, что холод — это ерунда, и приводил в пример девочек из ресторана «Приморский», которые почти без всякой одежды не только не помирают, но весь вечер дрыгают голыми ногами.
Под конец он спохватился и передал нам письма. Одно было мне. Вот оно:
«Борис! Я хочу поговорить с тобой начистоту. Я твоя жена три года. Каждый год ты шесть месяцев шляешься по всему Союзу и даже не пишешь мне писем. Остальные шесть месяцев ты шляешься по московским знакомым или приводишь домой разных придурков, которых называешь поэтами и художниками. Они ничем не замечательны. Я так больше не могу. Сейчас у тебя должны быть деньги. Ко мне не приезжай. Считай это письмо официальным разрывом.
Лена».
До приезда в Билибино я только тряс головой, не в силах очухаться от этого нокдауна. Чукоча ходил за мной как тень, тоже заметно погрустневший.
Пора, наверное, пояснить мою жизненную ситуацию. По образованию я инженер. Женился рано, на третьем курсе, на студентке этого же института. Это была и ее и моя первая любовь. Она была моей первой женщиной, я был ее первым мужчиной. Пять лет пролетели в счастье, мы любили друг друга тревожно и чисто. Зарабатывал я неплохо на монтаже электронных систем.
На шестой год она изменила мне с моим приятелем. Внешним мотивом возникновения у меня рогов послужило то, что она считала меня чересчур прямолинейным и неперспективным, а порочность моего приятеля казалась ей привлекательной и необыкновенной. Как и многие из женщин, она хотела прожить множество противоречивых жизней: добропорядочной матроны, светской львицы, женщины, желанной для многих мужчин, жрицы любви.
Вдобавок, пользуясь моим шестимесячным отсутствием, она выписала меня из Москвы: причинивший зло единожды упорствует в злобе до конца.
Так я одним росчерком пера стал бродягой и изгоем, личностью асоциальной. Нет прописки — нет работы.
Семь лет домом мне служили вокзалы, палатки геологов, кубрики рыбацких судов, вагончики строителей. Я изучал географию мозолями. Был моряком, рыбаком, геологом, сплавщиком. Эта жизнь меня ожесточила, и я приобрел волчью стать — не тронь меня, а то сам тебя трону. Так было, пока не повстречал Лену. Она подобрала меня, бездомного и самолюбивого, как могла умыла и причесала и вообще прельстилась моим видом до того, что прописала меня — бродягу с просроченным паспортом. Так я обрел семью, но не оставил своих привычек.
В конце концов я понял всю неотвратимость Лениного послания. Снова у меня не было дома. Наутро я сдал Виктору билет до Москвы и, не входя в объяснения, потребовал, чтобы он пошел со мной в местное геологическое управление и порекомендовал для головокружительной карьеры разнорабочего. Он посмотрел на меня внимательно и сказал:
— У тебя что-то случилось?
Я ответил загадочно:
— Над всей Испанией ясное небо.
Витя, в сущности, был неплохим человеком и не упускал случая сделать добро, если это ему ничего не стоило. Поэтому он отыскал начальника партии, к которому я поступал в подчинение, и попросил его:
— Сергей Николаевич, проставь, если можешь, парню две лишних недели в табеле. Он сдал билет до Москвы стоимостью двести рублей, надо как-то компенсировать его. Кстати, можешь поручать ему более ответственные работы — у него высшее образование.
Сергей Николаевич был длинным малым ковбойского вида. Он оказался хорошим парнем, свойским и справедливым. Поучил меня работе интерпретатора, а самое главное — доверил водить вездеход, и в дальнейшем я три месяца заменял заболевшего вездеходчика.
Лагерь геофизиков, в который нас забросили с Чукочей и который стал нашим домом на шесть долгих месяцев, был полупустой: три палатки стояли свободные, а три занятые. В одной, самой большой, шатровой, жили девять рабочих, в двух других разместились четыре итээровца и начальник партии.
Когда я зашел в шатровую палатку, намереваясь жить там, — мест свободных было много, стояли нары в два яруса, — меня встретили недружелюбным молчанием: видно, начальник успел натрепать про высшее образование. Только кто-то сиплым голосом сказал с верхних нар:
— Собачка твоя, как только сунется в палатку, попадет в суп.
Я молча вышел, решив спуску никому ни в чем не давать: добро или зло надо доводить до конца — этому меня выучила жизнь.
Я выбрал заброшенную четырехместную палатку и за два дня устроил свой быт. Натаскал, напилил и нарубил дров месяца на два, установил печь — все делал молча, никого не просил о помощи. Нарубил дров и для банной палатки и с удовольствием попарился.
Вслед за мной в баню приперся весь лагерь: оказывается, кому ее топить, было у них спорным делом, многие ленились. Атмосфера немного разрядилась — ко мне подобрели, но не все.
На третий день произошел все-таки взрыв. Коля, по кличке Совнархоз, ударил беспричинно Чукочу, тот прыгнул, вцепился ему в рукав телогрейки и оторвал его. Совнархоз схватился за топор, подоспел я, выбил топор у него из рук и отделал за милую душу. Коля побежал в палатку и выскочил с ружьем. Вслед за ним высыпал весь лагерь.
Оружие заряжено — оружие должно выстрелить, или Коле не жить больше в лагере, он понимал это лучше моего. Злость и отчаяние охватили меня. Коля целил куда-то рядом со мной. Я понял — в Чукочу — и прыгнул наперерез направлению выстрела, надеясь только на то, что ружье заряжено жаканом, а не дробью и пуля пройдет мимо. Кто-то успел ударить по стволам, и заряд дроби взбил снег у самых моих ног.
Все напряжение последних дней, отчаяние из-за Лениного письма, сделавшего меня снова бездомным, искали выход. Я ударил первого попавшегося в скулу так, что он упал как подкошенный, а это был Валентин, ударивший по стволам и спасший меня по крайней мере от увечья. Чувство уместной справедливости овладело ребятами, и скоро я стал плохо видеть: кровь из рассеченного лба заливала глаза; рядом рычал и рвал нападавших Чукоча. Неизвестно, то есть известно, чем бы это закончилось, если бы над нашими головами не прогрохотали подряд три выстрела. Стрелял Сергей Николаевич. «Вот для чего понадобилась твоя пукалка», — успел подумать я.
— Ну москвич, ну инженер, так тебя так, — сдавленным голосом прошипел он.
Я кивнул Чукоче и забрался в свою палатку. Там первым делом ощупал его — целы ли ребра? Он не возражал, молча стоял, понимая, видно, что я хочу узнать. Затем я осмотрел свои повреждения. Были разбиты оба надбровья, треснула кожа на лбу и на носу: кто-то вполне квалифицированно и минимум трижды заехал мне кулаком в брезентовой перчатке. Болел и нос, и ребра с левой стороны. Я смыл кровь тепловатым чаем, но она не останавливалась. Пришлось принести снег и прикладывать его к ранам, или как их там называют? Откинулся брезентовый вход палатки, вошел Валентин и, отобрав у меня снег, начал трудиться над моей головой: промазал все йодом, наклеил пластырь на нос и забинтовал лоб. Потом он сел и уставился на меня. Я взял осколок зеркала и стал любоваться собой. «Хорош красавец, — подумал, — теперь на морозе вся эта капуста будет болеть».
— А ведь это я ударил по стволам, — без всякого выражения сказал Валентин. — А ты? Мне нашатырь десять минут нюхать давали, пока очухался.
— Так всегда бывает, — ответил я, успокаивая готового к прыжку Чукочу. — Попадает больше тем, кто делает тебе хорошо, а не плохо.
— Тебя начальник зовет в столовую палатку, гнать собирается.
Когда мы зашли в столовую, там собрались все. Никто на меня не глядел. Чукоча остался за дверью, и я физически чувствовал его незримую поддержку.
Сергей Николаевич первый нарушил молчание:
— Вот что, москвич, собирай свои шмотки и проваливай завтра по холодку. До Дальнего пятьдесят километров, ходок, я слышал, ты знатный, дойдешь.
Я подумал: «Так не выгоняют, сволочи вы». Вслух ответил:
— Хорошо, — и собрался выходить.
— Постой, — остановил меня начальник. — Нам ты ничего сказать не хочешь? Ну извиниться, что ли? За дерьмо, что ли, нас считаешь? Ведь мы хотели, чтоб ты стал нашим товарищем. Ты же интеллигентный человек, институт кончал, — издевательски закончил он.
— Тамбовский волк вам будет хорошим товарищем, а я вас действительно за дерьмо считаю. — Жестокость снова поднималась во мне, и я был рад ей: значит, не надломила мой дух побитая морда.
Колька Совнархоз поднял голову, и я поразился — так она расцвела всеми цветами радуги за такое короткое время.
— Если человек за собаку под выстрел бросается, он хороший человек, никогда и товарища в беде не бросит. А дерьмо — это я. И если его гнать, то меня и подавно. Но на прощание, — он повернулся ко мне, — я у тебя, Боря, прошу извинения. Но все-таки пойми меня: ты у меня топор запросто отобрал — что мне оставалось делать? Ты ведь вон какая дубина здоровая.
Все повернулись ко мне и заулыбались. И так неожиданно добры были улыбки на их корявых, обветренных лицах, что закрутился ватный туман у меня в глазах и коленки дрогнули. Кто-то пододвинул мне чурбан. Я понял: с этими людьми мне жить.
Шесть месяцев прошли и оставили у меня в памяти свет немногословной и суровой дружбы. Конфликт этот только спаял коллектив, потом Сергей шутил, что всегда впредь будет устраивать в лагере драки, они как прививки против раздоров.
На Севере, как я многократно убеждался, плохих людей нет. Север их не терпит, он нещадно выбраковывает любителей длинного рубля, любителей въехать на чужой спине в рай. Он немноголюден, Север, и поэтому каждый человек проникается ощущением собственной полезности для коллектива. Каждый действительно необходимый винтик в общественном механизме. От этого рождается чувство собственного достоинства, лепящего из человека Человека. Тайны белого колдовства — белого безмолвия (очень все-таки верное определение снежного царства Севера) — делают людей сопричастными почти первобытной природе; людское отребье как уникум встречается только в небольших городках.
В апреле мы вышли на Дальний, и там я получил расчет — хорошие деньги. Временный приют нашелся у Мишки Есаула — быстро приобретенного друга. Я принес с собой двадцать килограммов сохатины, а у Мишки была поставлена брага.
Вечерами мы пировали. На мое гостевание смотрели сквозь пальцы, но долго оставаться было нельзя: у меня не было ни чукотской прописки, ни работы, которая оправдала бы мое пребывание в Дальнем или в Билибине. Надо было подумать об отъезде в Москву: все равно бы попросили.
Собака поможет от депрессии
О пользе пет-терапии или терапии с помощью домашних животных известно давно. Пользу для здоровья человека от общения с четвероногими друзьями признает даже традиционная медицина. Ну а бесспорными лидерами в хит-параде хвостатых лекарей являются, конечно же, наши любимые собаки! Итак, как же собака может помочь защитить вас
Моя собака
Борис Заходер Я не мечтала о собаке, В существовании моем Забот во множестве и всяких Хватало мне и без нее. Но что-то в жизни изменилось, Судьба вмешалась или рок: Собака все же появилась - Смешной и ласковый щенок. Ее растила как ребенка, И даже видела во сне. Ее лукавые глазенки Смотрели прямо в душу мне. Все было - радость и
Чукоча (продолжение)
Чукоча превратился в годовалую, очень рослую лайку в роскошной серебристо-серой одежде со светлым волчьим воротником. В Дальнем его все признали и говорили, что он очень похож на свою мамашу, которая проживала во Встречном, только более рослый и красивый. Никто не оспаривал моих прав на него, так как Чукоча всем своим поведением
Иван Бунин. Стихотворение "Собака".
Бунин Иван Алексеевич Мечтай, мечтай. Все уже и тусклей Ты смотришь золотистыми глазами На вьюжный двор, на снег, прилипший к раме, На метлы гулких, дымных тополей. Вздыхая, ты свернулась потеплей У ног моих — и думаешь... Мы сами Томим себя — тоской иных полей, Иных пустынь... за пермскими горами. Ты вспоминаешь то, что чуждо
Легенда о происхождении собак
Каждый из нас встречался с собакой. Многие знают о ее происхождении из энциклопедий, а также научной и популярной литературы. А нашим предкам энциклопедией служили предания и легенды, объясняющие различные явления в природе и животном мире. В Трудах этнографическо-статистической экспедиции в западнорусский край, опубликованных в