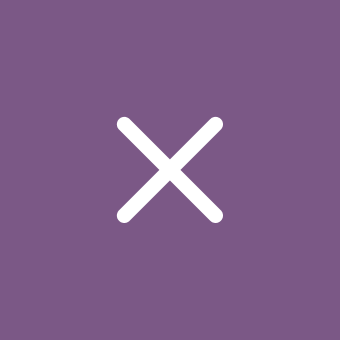В гостях у собаки
В гостях у собаки
Юрий ЯковлевВам когда-нибудь случалось скучать по собаке? По милому четвероногому существу, которое осталось далеко дома? Это чувство — горькое, но удивительно светлое — подстерегает меня в чужом городе, в неуютном гостиничном номере, когда я остаюсь один. Мне вдруг начинает недоставать холодного носа, который тычется в руку, длинного розового языка, который норовит лизнуть меня в щёку, преданных глаз, частого дыхания, запаха чистой собачьей шерсти.
Мне хотелось открыть окно и громко позвать:
— Доня! Донюша…
Я знаю, если бы мой зов долетел до собаки, она примчалась бы не раздумывая. По сугробам, по шпалам, вплавь, как угодно. Без отдыха, без сна, без вкусной похлёбки.
Я звоню домой. В Москву, на Пушкинскую улицу. Едва успеваю поздороваться и сразу спрашиваю:
— Как Доня?
— Ничего.
— Скучает?
— Спит на твоём диване.
— Передай ей привет.
На том конце провода не смеются. Там всё понимают и говорят:
— Хорошо. Передам. Когда ты приедешь?
Когда я приеду! Закончу дела и тут же — на вокзал. Если я скучаю по своей собаке, значит, мне не хватает целого мира — близких, рабочего стола, звонка над дверью, всего, что меня окружает дома.
Междугородный разговор кончился. Я кладу трубку и снова поднимаю её. Я набираю номер своего здешнего друга.
— Слушай, своди меня в гости.
— Приходи ко мне.
— Да нет, своди меня в гости к собаке.
На другом конце провода покашливание.
— То есть как к собаке?
— Есть у тебя знакомые с собакой?
— Надо подумать.
Я кручу телефонный шнур.
— Может быть, кто-нибудь держит. Хотя бы дворняжку.
Друг дышит в трубку. Думает. И вдруг он восклицает:
— Слушай!
Вероятно, он вспомнил про какую-то добрую душу, которая держит собаку.
— Ну?!
— В нашем цирке сейчас работает Наташа Дурова. Знаешь её?
— Знаю.
Перед глазами возникает моя старая знакомая: щеголеватая молодая женщина, рано поседевшая, с тонким покатым носом, с серыми глазами, расположенными близко к переносице. Энергичная, самостоятельная, вечно чем-то озабоченная…
Мой друг с подъёмом кричит в трубку:
— У неё морские львы, моржи, еноты, индюки…
— Стой! Не нужны мне индюки. Мне нужна собака. Есть у неё собака?
Молчание. Потом мой друг нерешительно говорит:
— Наверное, есть… У неё всё есть. Поезжай.
— Ладно, пусть морские львы. Поеду.
Я быстро собираюсь и еду, в надежде уехать от самого себя. Хотя бы к моржам.
И вот я попадаю в цирк. Не в праздничный бархатный амфитеатр, заполненный смеющейся публикой, а за кулисы. Иду по незнакомым каменным лабиринтам. Здесь полутемно. Холодно. Несёт звериным духом. Здесь в неприглядных серых помещениях трудом и потом создаются удивительные живые картины, которые в свете прожекторов сменяют одна другую в круглой раме манежного барьера.
Я нахожу конюшни. Это одно только название — конюшни. Здесь не слышно ржания лошадей, а ревут львы, медведи, кричат птицы.
Совсем как в джунглях. И в самом деле я иду не просто по коридору, а по тропе, по которой ходят львы и тигры. На манеж, как на водопой.
И вдруг с тигриной тропы доносится Наташин голос:
— Простой рыбий жир не годится. Для Васи нужен витаминизированный. Вы понимаете?
Нет, второй — мужской — голос не понимает:
— Не всё ли равно какой рыбий жир.
— Ваш не годится, он с осадком. А Вася маленькая, ей одиннадцать месяцев. И потом, она морж.
Морж — она, а зовут её — Вася. Я пропускаю мимо ушей это несоответствие. Когда моя собака была маленькой, ей тоже давали витаминизированный. Мне сразу становится любопытно посмотреть на Васю, которой, как и моей Доне, не годится простой рыбий жир, с осадком. Я прибавляю шагу.
— Ладно, — примирительно говорит Наташа, — куплю на свои деньги.
И тут я подхожу и здороваюсь. И сразу меня окружает особое гостеприимство, которое, оказывают питомцы внучки дедушки Дурова.
— Вася! Васенька!
Передо мной огромное, беззащитное в своей неподвижности существо. Розовато-коричневая шкура с перламутровым отливом. Ласты плоские, словно вылепленные из теста, а потом раскатанные катком.
В светлой оправе тёмные круглые глаза. А вокруг рта усы, висят как макаронины. Это Вася, Василиса. Малютка весом в семьсот килограммов. Она вылезает из «моря» на «берег», и каждое движение стоит ей огромных усилий. Вася вздыхает. Она таращит свои добрые глазищи и вздыхает. Что с тобой? Может быть, у тебя что-нибудь болит, а может быть, прорезаются зубки?
Из-под усов видны небольшие клыки. Пройдет время, и они станут бивнями. Бивни похожи на соху. Ими моржи перепахивают дно моря, извлекают раковины, а потом несут их на усах к берегу. И раскалывают клыками, как грецкие орехи.
Вася разглядывает меня, а я — Васю. И мне кажется, что она страдает оттого, что не может говорить. Я всегда подмечал это чувство в собаках. Но собаку, которая днём и ночью рядом с тобой, легче понять. А как узнать, что за тонкие переживания скрыты под толстой кожей этой морской царевны?
Из-за плеча на моржиху смотрит Наташа:
— Что тебе, доченька?
Доченька вздыхает. Как человек — только сильней и глубже. Потом переворачивается на спину, ловко подхватывает ластом мячик и начинает перекатывать его по животу. И я угадываю в этом странном существе что-то наивно детское, что звери хранят дольше и бережнее, чем люди. Капля за каплей я вбираю в себя это доброе детское начало, и мне становится легче.
А потом я подхожу к морскому льву. Он чёрный и гладкий, как бритый чёрт. Движения плавные, волнообразные. Ни одного острого угла. Кажется, что Лель не движется, а ласкается. Он топорщит белые капроновые усы и лает.
— Не скрипи! — командует Наташа. — Разговаривай мягче. А теперь накажи себя.
Лель всё понимает. Он начинает легонько — хитрец! — похлопывать себя ластом по мягкому месту. Впрочем, у него все места мягкие.
Чёрные глазки. Крохотные уши. И весь он такой самостоятельный, умный, понимающий.
— Я думала, что он не выживет, — словно сама себе, говорит Наташа. — У него был авитаминоз. Всё тело в нарывах. Совсем угасал. Он жил тогда у меня дома, в ванной. А я бегала по рынкам, доставала ему свежую рыбу.
За спиной раздается тяжёлый вздох. Это вздыхает Вася. Ревнует к Лелю. И косит в нашу сторону шарообразным глазом.
— Пойдём?
И вдруг я ловлю себя на том, что мне не хочется уходить от этих ласковых питомцев моря. Какое-то чувство проклюнулось во мне и уже дало робкий всход.
— Можно дать им сахара?
— Нет, дай лучше рыбы.
Рыбы у меня нет. Но Наташа суёт мне в руку серебристые слитки салаки. Я беру их и кормлю Леля, а потом Васю. Запах рыбы приближает море. Наташа улыбается. В волосах у неё застряла рыбья чешуйка. Надо уходить, пока не привязался!
И снова каменные коридоры и двери с надписью: «Осторожно: хищники!» Я иду, смотрю по сторонам, прислушиваюсь. Из-за железной двери доносится тихий стон.
— Что это?
— Медвежонок.
— Болен?
— Да, болен… Его избил дрессировщик.
— Разве это разрешается?
— Болевой способ дрессировки.
— Этого дрессировщика болевым бы способом!
— Идём сюда.
Мы идём молча. Не поднимая глаз. Нам стыдно перед медвежонком за человека.
Почти в каждом живом существе скрыты удивительные таланты. Их можно вызвать к жизни трудом и терпением. И тогда сложные цирковые номера будут казаться самим четвероногим исполнителям игрой, состязанием. Но можно разбудить способности страхом, болью — болевым способом. Тогда исчезнет весёлая непринуждённость. Её сменит чувство самосохранения. Это бумажные цветы. Но доверчивый зритель не сразу отличит их от живых.
А вот и арена цирка. Она может превратиться в степной простор, может стать морем, небольшим круглым морем. По трубам хлынет искусственный холод, и круглое море станет круглым катком. Выступают медведи. Медведи-конькобежцы. Под руководством дрессировщика Капитонова. Зрители будут хлопать, смеяться. И никто не будет знать, что сегодня утром служители соскребали со льда кровь. После репетиции с медвежонком.
— Осторожно!
Наташа схватила меня за руку и оттащила в сторону. Мимо, тяжело дыша, прошла огромная медведица. Её вёл невысокий человек в костюме тореадора. Он держал её за ухо — так больней и надёжней — и тихо приговаривал:
— Но, но, старая дрянь!
Мне вдруг стало страшно. Не огромной медведицы, а человека, вцепившегося ей в ухо, как клещ. Мне стало страшно его трусости, которая рождает жестокость.
Две фигуры скрылись за поворотом. Настроение было испорчено. Надо было просто пойти в гости к собаке, а не тащиться сюда.
— Ну идём, идём, — торопит меня Наташа, — я тебя ещё не со всеми познакомила.
Она стоит передо мной усталая, растрёпанная, платье всё в шерсти животных и в рыбьей чешуе. От неё пахнет рыбой, словно она из одной стихии с Лелем. Усталая русалка без хвоста. Она совсем не похожа на московскую щеголеватую Наташу.
— Идём к Бемби.
— К Бемби так к Бемби!
Наши шаги отдаются щелчками под потолком.
Надо только раз посмотреть на маленькую косулю, и сразу поймёшь, что жизнь лишилась бы одной удивительной краски, одного тонкого звука, одного живого аромата, если бы не было на свете этого маленького существа.
Бемби длинноногий и лёгкий, как кузнечик. Он передвигается прыжками. А выпуклые чёрные глаза определяют, куда бы прыгнуть.
— Где ты такого раздобыла?
— Он сломал ногу. В зооцентре. Его хотели «списать». Кому был нужен хромой.
— А тебе в самый раз?
— Видишь, как я его починила.
Я протягиваю руку, косуля-кузнечик делает прыжок в сторону.
Потом стоит, расставив передние ножки, и внимательно изучает меня: кто я такой, как я сюда попал и что от меня можно ждать? У него только что прорезались рожки — два заросших шерстью бугорка. Почесать бы их.
Я вспоминаю японский город Нару, где в парке на свободе гуляют олени. Их около тысячи. Там я чесал рожки оленёнку. Подойди сюда, Бемби, я тебе тоже почешу. Он не сразу проникается ко мне доверием. Но потом подставляет голову, и я начинаю почёсывать за маленькими рожками и за большими ушами. Бемби приятно. Он не собирается прыгать и закрывает глаза. Большой кузнечик с пятнышками на шкурке.
Рядом с Бемби живёт индюк. Он похож на догорающий костёр: весь чёрный, как головёшка, а гребень и бородка ярко-красные, как непогасшие угольки. Я подхожу к индюку, и он начинает переступать с ноги на ногу и раздуваться. Появляется больше чёрного и больше красного. Словно кто-то решил не дать погаснуть костру, раздувает его, и угольки разгораются ярче. А рядом стоит самка. Серая, как зола. С одной красной головкой на месте гребня.
Сквозь ворох перьев в янтарном чопорном взгляде трудно разглядеть что-то доброе и тёплое. Но, видимо, надо уметь смотреть.
Чьи-то цепкие холодные лапки хватают меня за палец. Я оборачиваюсь и вижу мохнатого зверька, который стоит на задних лапах и выжидательно смотрит на меня. Что ему надо? Ничего. Просто немного внимания.
Хорошо, что у меня в кармане есть сахар и печенье. Можно его угостить. Он берёт двумя лапками печенье и прежде, чем съесть, макает его в воду.
— Это кто ещё такой?
— Это Мишка. Енот.
Он тихий и застенчивый. И палец мой он держит не сильно. Вероятно, человеческая рука никогда не причиняла ему боли, а кормила, ласкала, врачевала. И он тянется к человеческой руке, даже не зная, кому она принадлежит.
Мишка ест печенье. Ест сахар. Ест без торопливой жадности. И всё макает в воду, как беззубый старичок. А зубов у него полон рот.
— Недавно болел чесоткой. Насилу выходила.
Наташа не отходит от меня. Но она не забегает вперёд, не лишает меня самостоятельности. И вместе с тем я чувствую на себе её ревнивый взгляд: не слишком ли ласковы со мной её звери?
— Хочешь, я тебе покажу сестру милосердия?
— Конечно.
И вот у меня на руках кошка — Кисоль. Некрасивая: нескладная, белая с чёрными кляксами. Когда болел Мишка, она была с ним рядом в изоляторе, чтобы он не очень скучал. А когда появился Бемби со сломанной ногой, добровольно перешла к нему в вольер. Действительно, сестра милосердия.
— Где ты её откопала?
Наташа пожимает плечами:
— В сточной трубе. Кто-то бросил. Маленькую, слепую. Я её из пипетки кормила…
Я то приседаю на корточки, то встаю на носки и тянусь, тянусь к доверчивым существам. В каждом открываю что-то новое, необычайное, благородное. Я чешу их за ушами, глажу по шерсти, называю ласковыми, позаимствованными у Наташи именами. И чувствую, как меня наполняет новая волна любви к жизни.
И вдруг:
— Зверям пора спать!
…Наташа стоит и улыбается. В волосах поблескивает рыбья чешуйка.
Надо уходить. Я прощаюсь с Васей, с большеглазой морской царевной, с лакированным Лелем, с костром-индюком, с большим кузнечиком Бемби, с Мишкой, которого недавно вылечили от чесотки, и с его сестрой милосердия.
— Стой! Мы забыли Шарика и Прохора!
— Кто такие?
— Скворцы. Одного подбил мальчишка из рогатки, другой чуть не замёрз зимой…
Я вернулся домой поздно. Весь мой костюм был в шерсти, а от рук пахло свежей рыбой. Счастливая усталость овладела мной.
Я опустился на стул и закрыл глаза. И тут зазвонил телефон.
— Как дела? — спрашивал меня здешний друг. — Был в гостях у собаки?
Я на мгновенье задумался и, помедлив, ответил:
— Был. Всё в порядке.
Лизание и другие проявления ласки у собак
С момента рождения щенка облизывает мать. Облизывание - метод поддержания чистоты. Собаки ласково лижутся друг с другом, чистят себя, облизывая потные или больные места. Лизание - жест дружелюбия. Касание тоже является проявлением ласки. Чтобы приласкаться к матери, щенок тычется носом в угол ее рта и лижет ее. Когда собака
Как воспитывать немецкую овчарку
В гостях у Нади Лаптевой в программе "Test.tv: Все для животных" кинолог Анастасия Бахчеван и немецкая овчарка Чеззи
Колыбельная заводчика
Татьяна Любимова Баю- баю – баюшкИ,засыпайте- ка, щенки! Хватит лаять и играть, надо глазки закрывать. Хватит провода жевать, теребить собаку- мать, мяч под кресло загонять, ночь пришла, всем быстро спать! Рвать газеты, обувь, книжки завтра будете, малышки, спать пора, баю- баю. Хватит прыгать, говорю! Всем лежать, баю- баю, я вам
Вдвоем с собакой
Юрий Яковлев Я иду по родному городу, а рядом со мной, не отставая ни на шаг, идет моя собака Динго. Мы идем по тротуару, шагаем по мостовой, перебегаем через перекрестки. Время от времени мы понимающе смотрим друг на друга. Так, по крайней мере, кажется мне. В моей собаке, помимо стати и красоты, есть внутреннее благородство. Его
Предательская колбаса
Михаил Михайлович Пришвин Ярик очень подружился с молодым Рябчиком и целый день с ним играл. Так в игре он провел неделю, а потом я переехал с ним из этого города в пустынный домик в лесу, в шести верстах от Рябчика. Не успел я устроиться и как следует осмотреться на новом месте, как вдруг у меня пропадает Ярик. Весь день я искал